Поголовье лошадей в крестьянском хозяйстве “Erlain” в последнее время заметно пополнилось. Время с апреля до начала мая выдалось весьма напряженным: пять кобыл принесли пятерых жеребят, как и было запланировано.
Несколько ночей были нелегкими: тренер Расма Лапса, при самоотверженной помощи местного жителя Дементия Сильченока, способствовала появлению на свет нескольких лошадиных малышей.
Сегодня в хозяйстве — 20 голов. Кобылы с жеребятами пасутся в одном загоне. Один породистый жеребец, предназначенный для продолжения потомства — отдельно. По словам владельца хозяйства Эрика Мукана: “Судьба у него такая — одному пастись”. Остальные спортивные лошади гуляют чуть поодаль — у самой границы с Беларусью. Пограничники животных хорошо знают — сами однажды помогали Расме вернуть домой посягнувших на переход государственной границы лошадок. Теперь у животных всегда при себе паспорта (электронные чипы) — чтобы впредь, если они решат самовольно пересечь границу, не возникло недоразумений с пограничной службой.
Соседи знают владельцев этого крестьянского хозяйства очень хорошо. А вот в более отделенных населенных пунктах — меньше, поэтому мне и захотелось больше рассказать как об этих людях, так и об их детище, то есть хозяйстве. Раньше оно называлось, как и подобает, по-латышски — “Эзерлеяс”. Однако зарубежным гостям было непросто объяснить, что же это означает, поэтому появилось новое название — путем сложения первых букв имени хозяина — Эрика, — его сына Лауриса и жены Инары. Впрочем, новое название у иностранных гостей ассоциируется с компанией-авиаперевозчиком “AirLine”, поэтому и теперь приходится объяснять, что к чему.
Для того чтобы побольше узнать о хозяйстве, решила отправиться на встречу с его владельцем Эриком Муканом, его женой Инарой Мукане, а также тренером спортивных лошадей Расмой Лапсой, которая теперь является неотъемлемой частью хозяйства.
Эрик Мукан: “В свое время возникли благоприятные обстоятельства. Впрочем, появились они исторически. Сам я когда-то учился в Каплаве, в основной школе, затем — в Краславской средней. А когда и ее окончил, надолго уехал из района — в Санкт-Петербург (тогда еще Ленинград), где учился на садовода.
Там случилось мне повстречать профессора, который говорил на латышском языке. Он был заведующим кафедрой садоводства сельхозакадемии. Бывший военный, полковник, он экстерном окончил вуз. А еще ему очень нравилась Латвия — так, что самостоятельно освоил латышский. Вначале я этого еще не знал. И вот однажды захожу в кабинет, а он и говорит мне на чистейшем латышском “Labdien, biedri Mukān!” Я даже присел. Здесь, в Ленинграде, ко мне обращаются по-латышски! “Nu, runāsim latviski?” — спросил он. Я согласился. Вот такие у меня воспоминания о начале учебы.
Когда был на третьем курсе, стал руководить опытной садоводческой станцией. А затем так и остался в Ленинграде. Там же служил. Приехал как-то в Латвию, и родственники уговорили остаться здесь насовсем. Все твердили: “Ну, что ты там один, на чужбине, делать будешь?”
В Министерстве сельского хозяйства мне предложили сразу три места работы. Сказали: “Мы тебя упустить не хотим. Какое хозяйство выберешь, в том и оставайся”. (В то время полученное в Ленинградской академии образование считалось очень качественным — авт.). Так вот. Предложили мне Шкибе Добельского района, Лоне — Екабпилсского, а также совхоз “Лигатне”. Я выбрал Добеле, где директором в то время был краславчанин — земляк, значит. Здесь проработал до 1986-го года, пока не перевели директором на опытную садоводческую станцию в Пуре. Когда она канула в небытие, я остался там жить, организовал свой бизнес.
Но вот настали новые времена, и появилась возможность вернуть наследственную землю. Такая земля была у меня здесь, в Каплаве. Весь центр поселка в свое время принадлежал моим родственникам. До прихода коммунистов у них было 52 гектара земли. Мой предок не был помещиком, зато являлся депутатом первого сейма.
Конечно, я мог бы отказаться от земли, взять сертификаты. Но раз уж предки мои боролись, работали здесь, то решил: нужно вернуть землю и пробовать на ней трудиться.
Поскольку участок, как я говорил, находился в центре поселка, понятно, что он был застроен частными домами и колхозными зданиями. Можно было, конечно, побороться, потрепать нервы себе и тем, кто там живет. Но я выбрал другой вариант. Отказавшись от того участка, я получил относительно равноценный. Впрочем, таковым его вряд ли можно назвать, поскольку мне досталось все приграничье, на которое никто больше не соглашался. Прикупил еще, за сертификаты — и вот, получилось хозяйство, где и в колхозные времена паслись одни лошади.
Нужно было начинать что-то делать. Отец, который был каплавским фельдшером, имел служебную лошадь. Поэтому с детства у меня наладились с этими животными особые отношения. У отца в общем хозяйстве еще оставались паи, которые нужно было как-то реализовать. Чтобы начинать нечто серьезное, их было явно недостаточно, хватило лишь, чтобы выкупить лошадь. Приехал сюда, выбрал самого красивого коня в волости. Это был Рембис. Так в 1992 году у нас появилась первая лошадь.
Оставил коня в Каплаве, поскольку здесь всегда жила и до сих пор живет моя мама. Думал: ну вот, теперь она сможет отправиться на лошади в магазин, еще куда-нибудь. Однако, поскольку это жеребец, да еще и весьма буйного нрава, ничего из этой идеи не вышло. Теперь вот езжу на нем сам, предлагаю прогулки друзьям”.
Супруга Инара: “Тем, которые хотят экстрима”.
Э. Мукан: “Да, всякое бывало: то в яблоневые заросли наездника завезет, то скинет в бобы. Позднее у него выявили проблему со здоровьем, связанную с дыханием. Когда приехал сюда, мне даже сказали: “Конь за полминуты тридцать раз кашлял. Что делать?”
Ну, зачем мучить животное? Надо вести на бойню. Уехал в Пуре в жутком настроении. Сел на диван, включил телевизор. И вдруг — реклама ветеринарного факультета Елгавской академии. Оказалось, что там есть стационар для лошадей, где животных лечат. Мол, даже из Германии больных лошадей привозят. А в конце в титрах — номер телефона. Я успел записать его и сразу позвонил. Спрашиваю: “Свободные койки есть?” Мне отвечают: “Да, а что вы хотели?” Я рассказал о своей проблеме. На это мне ответили: “К сожалению, мы, вероятно, ничем помочь не сможем”. Я говорю: “Тогда хотя бы возьмите и покажите студентам, как нельзя обращаться с лошадьми, до какого состояния их нельзя доводить”. На том и порешили.
Никогда до этого не занимался транспортировкой лошадей, не знал даже, как выглядит прицеп для этих целей. Они предложили мне такой прицеп, я заехал за ним, забрал. А уже здесь, на месте, как ни странно, без особых проблем завел коня внутрь и отвез в елгавский стационар.
“Койка” действительно оказалась сродни больничной — все вычищено, свежая подстилка. В общем, чудо. На дворе тогда был март или начало апреля. Рембис прошел курс лечения. И вот звонят мне оттуда: “Забирай! Здоров, как огурчик. Все в порядке, жить будет. Только есть одно “но”. Ему нельзя давать сено. Я отвечаю: “И что теперь, мне ему блины выпекать?” На это специалисты ответили: “Нет, сено давать можно, но только смоченное, влажное”.
Я привез коня не в Каплаву, а в Пуре. Там мы живем в ливанском доме. Рембиса держали в хлеву. Двери там все время были открытыми, он выходил, когда хотел. Причем на протяжении всей зимы — смотришь: голова Рембиса на улице, вся, до самой груди, покрыта инеем. Так в течение двух лет увлажняли сено.
Инара Мукане: “Это было зимой, а летом конь гулял по саду. Как у других кот или собака. Выспится где-нибудь под яблоней, или станет у порога, словно говорит: “Может, дашь мне кусочек хлеба?”
Эрик Мукан: “Два года смачивал сено, которое давал коню. За это время подружился с ним. Можно сказать, что таким образом я развивал налаженную в детстве связь с лошадьми. Принимая во внимание то, что в Каплаве нужно было обхозяйствовать немалые площади, решил: нужно отвезти Рембиса в деревню и создавать стадо. Затем случайно увидел объявление Расмы — она искала возможность заниматься с лошадьми, причем в том месте, где могла бы и жить. Встретились, после чего началось наше сотрудничество. С собой она привела коня по кличке Эскорт. Вот так у нас практически было готовое стадо. Конюшню, между тем, еще не построили.
Расма Лапса: “В то время я жила в деревенском доме, который мне предложил Эрик. Зимой обе лошади находились в хлеву, что рядом с домом. А летом стоило лишь свиснуть — Рембис и Эскорт уже дома. Соседи говорили: “Как это ей удается?! Ни загона нет, ни цепи — а они слушаются”.
Эрик Мукан: “Так перебивались два или три сезона. А потом появилась возможность приобрести еще нескольких лошадей.
Параллельно, ухаживая за стадом, Расма с дочерью Сантой постоянно тренировались. Первый год мы интенсивно занимались и участвовали в соревнованиях, лишь одно или два пропустили”.
Расма Лапса: “В молодежной группе Санта тогда была пятой среди лучших наездников страны. Теперь прошло немало лет. Санта вышла замуж, родила ребенка. Впрочем, занятий конным спортом не забросила”.
Эрик Мукан: “В принципе, тренироваться нужно ежедневно. Молодые люди, ровесники Санты, в конном спорте достигли немалых высот”.
Расма Лапса: “Они живут ближе к Риге. У нас же все сложнее. Пока в стране были нормальные условия, ездили на соревнования — и пока хозяин мог все это тянуть”.
Эрик Мукан: “Понятно, что сложившаяся экономическая ситуация отразилась и на наших возможностях принимать участие в конкуре. Но если до сих пор мы как-то выживали, то попробуем развиваться и впредь”.
Расма Лапса: “Ну, а что за жизнь у тех, у кого, казалось бы, все в порядке? Посмотри, в Видземе построенный недавно новый манеж пустует — поскольку предприятие, занимавшееся спортивными лошадьми, полностью ликвидировано. Поэтому, пусть и стиснув зубы, зато мы здесь, в Латгалии, еще держимся”.
На вопрос, почему нет ни одного указателя к крестьянскому хозяйству, Э. Мукан пояснил, что “Erlain” охватывает большую территорию. Конюшни расположены недалеко от бывшей Вецборнской школы, но на месте застать здесь вряд ли кого-то удастся, поскольку хозяева, приезжающие из Пуре, живут в родительском доме, расположенном чуть поодаль.
Расма Лапса: “Мы мало рекламируем себя. Возможно, хозяин считал, что мы еще не готовы, ведь здесь спортивные лошади, а не для отдыха. Я не могу кого угодно посадить на спину этих животных”.
— А как определить, кого можно, а кого не стоит сажать на спину лошади?
Эрик Мукан: “Мы пробуем. Сегодня можно говорить об этом с улыбкой. Бывало, приедут друзья сына из Риги. Посадим на лошадь — и пожалуйста, у наездника сломаны две руки, больше на коня его сажать нельзя. А если серьезно, наездник должен быть подготовленным”.
Расма Лапса: “Связь с лошадью налаживается постепенно. Девушки из Даугавпилса вначале приезжали по выходным. А летом какое-то время жили здесь. Эрик предоставлял бесплатный ночлег.
Это ежедневный труд. Ничего не случается сразу. И прыжкам через препятствие тоже обучаются постепенно. Вначале преодолеваем невысокое препятствие, затем увеличиваем уровень сложности. Знания о том, как вести себя с лошадью, также приходят лишь в процессе регулярных занятий. Тренировки в нашем хозяйстве — бесплатные. Инвентарь Эрик также предлагает безвозмездно”.
Эрик Мукан: “На данный момент я хочу увлечение лошадьми превратить в более серьезную деятельность. С животными, которые могут достичь успехов в спорте, больше заниматься, других обучать и продавать — как лошадей для отдыха. Причем часть можно реализовать и в Латвии, но в основном — за границей: в Финляндии, Швеции, Германии. Самый интересный рынок — это Россия. Менталитет там особенный. Приходит покупатель — подавай ему именно эту лошадь, а за ценой уж он не постоит!”
Спортивные лошади — это очень интересно. Однако нередко уход за этими животными доставляет немало поводов для беспокойства, особенно в Латгалии.
Эрик Мукан: “На месте лошадиного доктора нет. Есть только ветеринар. Он, конечно, никогда не откажет, однако со спецификой этих животных он не знаком, поскольку это — не его специальность. Возникает парадоксальная ситуация: лошади находятся в Латвии, лечат их эстонцы из Тартуского университета, а рентген делают в Каунасе. Какое-то время ездил мастер Иво Микельсон из Талси — стриг копыта и изготавливал подковы. Теперь он занимается этим меньше, в основном судит конные соревнования. Учился он тоже за границей — в Германии. Чтобы подковать лошадей, зовем парня Тома из Валмиеры. Ведь это — тоже искусство, для которого требуются особые знания и опытные мастера.
Кстати, к вопросу, почему решил вернуть наследственную землю: одним из решающих моментов стало то, что мои предки Праулини были родственниками писателя Яниса Яунсурабиньша, который жил здесь некоторое время и написал книгу “Augšzemnieki”. Вот и решил, что не стоить предавать забвению этот исторический факт, произошедший на границе Латвии и Беларуси. В доме Праулиней, который достался по наследству маме, и сейчас работает музей в память о Я. Яунсудрабине. Руководит им также моя мама Вера Мукане, которой уже более 90 лет.
Все говорят, что мы находимся в Латгале. Между тем, Латгале — это у вас, в Краславе. А у нас уже Земгале. Когда к маме приехал Зиедонис и попросил, чтобы она поговорила по-латгальски, она ответила, что не знает этого языка, поскольку никогда не жила в Латгалии. Ведь раньше это был не Краславский, а Илукстский округ”.
По профессии Эрик Мукан — садовод. Его хозяйство занимается еще двумя направлениями — международные грузоперевозки и лесоразработка, изготовление мебели.
А сельское хозяйство и лошади — это уже третье.
— Во времена вашей юности, насколько я понимаю, молодые люди рано начинали свой трудовой путь, получали опыт и осваивали необходимые знания. Сегодня нередко случается, что, только окончив несколько учебных заведений, молодой человек начинает работать и набираться опыта.
Эрик Мукан: “Нашему поколению в этом отношении было легче. Как только начинали ходить — появлялись какие-то обязанности. Поэтому в дальнейшем уже без слов было понятно, что делать, если столкнулся с чем-то в жизни. Мы имели представление о любом процессе, связанном с сельским хозяйством.
После окончания вуза у меня действительно было немало прекрасных возможностей — большие хозяйства с огромными площадями и объемами производимой продукции, где можно было экспериментировать. Как в Добеле, где были самые большие сады Латвии, так и в Пуре, где в хозяйстве насчитывалось более 5000 голов, 29 ферм, большой автопарк…
— Приходилось ли вам, как руководителю большого предприятия, самому “наломать дров”?
Эрик Мукан: “Да не особенно. Поскольку в каждой области были свои специалисты. Не нужно бежать впереди паровоза и выпячивать свои знания. Необходимо воспринимать то, что говорят тебе специалисты. Это и есть обязанности руководителя”.
Илона СТЕПИНЯ.





.jpg)


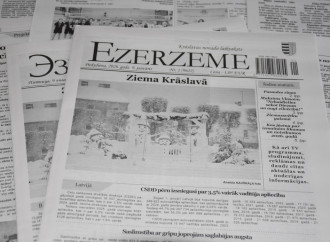

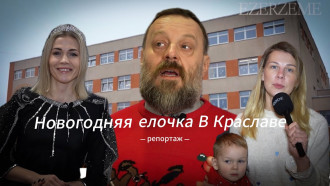






25.09.2020.JPG)













