За последний год на долю здравоохранения выпало множество потрясений, из-за чего пострадали больницы, коллективы, пациенты. Ненадолго прекратила работу и Краславская больница, однако общими усилиями ее удалось отстоять. Какова она сегодня? Об этом наш разговор с руководителем учреждения Александром Евтушком.
— Что, собственно, осталось от больницы после событий минувшего лета и осени?
— Как только постановлением Кабинета министров с 1 октября работа больницы возобновилась, мы открыли все отделения, которые были до закрытия — хирургическое, терапевтическое, отделение реанимации и интенсивной терапии. Что до детского и родильного отделений, то они были закрыты раньше и, естественно, не восстанавливались. Открывая больницу заново, нам пришлось считаться с объемом госзаказа или квотой, отпущенной на тот момент. Это означает, что вернулись не полнопрофильные отделения с 40-60 койками, а гораздо меньшие: первоначально было 25 койко-мест, затем пришлось сократить до 20, так как уменьшился госзаказ. Конечно, можно поставить и 100 коек, но государство все равно оплатит только по выделенной квоте.
— Специалистов не растеряли?
— Один врач ушел, некоторые работают на меньшую ставку, так как нашли работу в другом месте и теперь совмещают. Ни в коем случае не осуждаю людей: ситуация в прошлом году была настолько шаткая, что они стали подыскивать работу. К тому же, с 1 сентября мне пришлось уволить специалистов уже реально. Должен сказать, что мы с честью вышли из переделки и сумели практически полностью сохранить кадры.
— Судя по данным Расчетного центра, за первый квартал текущего года больницы на 54% перерасходовали запланированный объем услуг, и государство осталось им в долгу 11,8 миллиона латов. Краславская больница оказала услуг почти в четыре раза больше, нежели было заложено в ее бюджет. Помнится, в январе СМИ озвучили даже шестикратный перерасход. Между тем, народ толком не понимает, что это означает.
— Сразу поясню, что Краславская больница никому ничего не должна. При составлении госзаказа на 2010 год за основу взяли цифры 2009 года. Между тем, в июле-августе квоту для нас снизили, а сентябре больницу вообще закрыли. Новая же квота рассчитывалась по второму полугодию. Таким образом, объем госзаказа был значительно снижен, расчеты производились механически, без учета всех обстоятельств. В результате больницам, где в 2009 году госзаказ был выше, и денег досталось больше. Нам же отвели мизерную сумму, и мы в нее не уложились. Сегодня, согласно правилам КМ по финансированию здравоохранения, госпитализируем лишь тех больных, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи. А это пара десятков койко-мест. Плановое лечение государство теперь не оплачивает. Ну, и чтобы людям было абсолютно понятно, поясню: неотложная помощь — это помощь, без которой человек обречен. По правилам КМ, ее необходимо оказывать в любой ситуации, что мы и делаем. Заниженная же квота и прочие сопутствующие факторы, например, неблагоприятная возрастная структура населения (в районе много престарелых, больных людей) как раз и привели к ситуации, что в январе, феврале и марте число больных превзошло госзаказ. Почему? Да потому, что мы не вправе отказать в неотложной помощи.
Действительно, январскую квоту мы перерасходовали в шесть раз — выполнили работ на 38000 латов, между тем, госзаказ предполагал 6250 латов. Ровно столько и получили, такая же сумма будет поступать и все последующие месяцы. Недостающие деньги намерены брать из других источников — общего котла больницы, поэтому по некоторым позициям начинает образовываться задолженность. На сегодняшний день мы фактически выполнили годовой госзаказ по стационарной помощи. Повторяю: квота неадекватно низкая, платежи разбиты по месяцам равномерно, а самое скверное, что она гораздо меньше, нежели в тех больницах, которые работали без перерыва. Да, перерасход есть и в других лечебных учреждениях, однако не столь большой, как у нас.
— Но людям ведь платите?
— Конечно. По разрешению Кабмина часть налогов в госбюджет перечисляем отложенным платежом. Появляются долги, и складывается ситуация, когда в какой-то из месяцев уже надо выбирать — покупать медикаменты, покрывать хозяйственные расходы либо платить зарплату.
— Какова ответственность краевой думы, помощь с ее стороны?
— Дума тут ни причем — средства на здравоохранение поступают из Расчетного центра здоровья. В них заложена стоимость услуги, которую нам оплачивают, и которую мы у себя делим, руководствуясь нормативными документами. Скажем, минимальный оклад составляет 180 латов, сестринский — не ниже 220, врача — не меньше 320 латов. Далее — медицинская и хозяйственная деятельность. Одни отапливаются природным газом, другие имеют собственную котельную на щепе, третьи покупают еду, четвертые готовят ее сами. У нас имеются собственная котельная, где сжигаем щепу, прачечная, кухня, столовая. Это намного дешевле, чем покупать услуги. Поэтому пока еще выживаем. Хотя, как я уже сказал, долги начинают накапливаться. Что будет дальше — не знаю. Совместно с коллегами из других больниц мы направили письмо в Расчетный центр здоровья и Минздрав, в котором проинформировали о нехватке денег. Письмо ушло несколько недель назад, оно подписано членами двух стратегических советов и ведущими специалистами Минздрава. Суть в том, что для нормального функционирования отрасли в 2010 году требуется дополнительно 50-52 миллиона латов.
— Как идут дела с объединением Даугавпилсской региональной, Прейльской и Краславской больниц? Такое впечатление, что процесс остановился, и люди снова опасаются, не закроют ли больницу во второй раз.
— В настоящее время идет работа над документацией, в частности, договором. Решение об объединении вынесли самоуправления, и никто его не отменял. А причину заминки поясню. Дело в том, что с 1 апреля бывший онкологический диспансер в Даугавпилсе, отдельная структура с отдельным зданием, присоединен к региональной больнице, туда перешли медики и другие работники. Амбулаторный прием ведет Даугавпилсская городская поликлиника. Это слияние заняло много времени и несколько затормозило объединение региональной больницы с локальными — Краславской и Прейльской. Население же могу успокоить: закрытие Краславской больницы ни в чьи планы не входит. Но существуют другие сомнения. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы в достаточном количестве сохранить специалистов. Не будет их — не будет и больницы. Главная наша задача — удержать тех, кто работает у нас сейчас, не рассчитывая на новых. Кадровая проблема существует и в других городах, в том числе, в Даугавпилсе. Нет ее, разве что, в Риге. Начиная с 1990 года, на работу в Краславу не приехал ни один врач, окончивший Медицинскую академию.
Абсолютно уверен — Краславская больница жизненно необходима людям. Самая отдаленная от Даугавпилса волость находится в 100 километрах. И если на этом отрезке не будет локального стационара, пациента могут не довезти. Это и стало одним из наших аргументов в пользу больницы: на последнем этапе переговоров положили перед министром карту и назвали расстояния от отдельных населенных пунктов до Краславы. Открывая лечебное учреждение, конечно же, обсудили с руководством Даугавпилсской региональной больницы объем помощи, который берем на себя. Все согласовано, и с точки зрения даугавпилчан, количество койко-мест у нас обоснованно и оптимально.
— Расскажите, как сегодня работает неотложная медицинская помощь, или простым языком — “скорая”?
— С 1 октября 2009 года “скорая” помощь находится в подчинении Государственной службы неотложной медицинской помощи, а это уже государственная структура. К нам это имеет отношение лишь в том плане, что они привозят больного, а мы госпитализируем.
— Между тем, ситуации бывают разные. Скажем, из-за нехватки денег вы отказываете человеку в госпитализации, а на дворе ночь…
— Госпитализация в стационар осуществляется только в том случае, если пациент нуждается в неотложной помощи. И это не зависит от финансового положения больницы. В остальных случаях пациент, после осмотра врачом приемного отделения и проведенных дополнительных исследований, если это было необходимо, получит рекомендации по дальнейшему лечению в амбулаторных условиях. Транспортировкой больных домой “скорая” не занимается. В этом случае пациент может воспользоваться услугами такси.
— А что, если в больнице не оказывается мест?
— Подобного ни разу не было, а если б и случилось, то существует распоряжение, согласно которому, при отсутствии свободных мест в отделении больного кладут на любую свободную койку и приступают к лечению. Однако за пять лет мы с этим не сталкивались. Имеем солидный резерв коек и площадей, поэтому даже в случае тяжелого ДТП, скажем, с автобусом, можем обеспечить госпитализацию 20-30 человек одновременно, причем в любое время суток. Не стану вдаваться в детали, но уверяю вас: сделаем это оперативно и без проволочек. Так что причиной отказа от госпитализации может служить только одно — отсутствие показаний для помещения больного в стационар.
Общая же ситуация непростая. Мы начали вести учет больных с передачей сведений в вышестоящие структуры. Дело в том, что люди обращаются за помощью с опозданием. Например, болеют неделю-две дома, а потом в субботу, воскресенье или поздно вечером вызывают “скорую”. Из беседы выясняется, что человек занемог не вчера и давно должен был обратиться к семейному врачу. Это как раз те случаи, когда возникает недовольство, взаимные упреки. Второй момент: пациент не только своевременно не идет к врачу, но и не принимает медикаментов, не ходит на назначенные процедуры. Возможно, потому, что материальное положение семей не ахти какое, медикаменты стоят дорого.
— Но ведь иногда и в больнице медикаменты надо покупать самим?
— Это другой вопрос, не имеющий никакого отношения к тем, кто нуждается в неотложной помощи.
Самостоятельно покупают медикаменты больные дневного стационара, поступающие туда с направлением специалистов и семейных врачей. Их состояние здоровья угрозы для жизни не представляет, в больнице им лежать не надо. В дневной стационар помещают при обострении болезни, здесь существует амбулаторная квота: государство платит нам за проделанную работу. В плане затрат дневной стационар намного дешевле, однако на данный момент мы перерасходовали и эту квоту, опередив ее на месяц. Впрочем, по нашим прогнозам, летом все войдет в колею, так как люди в это время болеют реже. В дневной стационар принимают не только при обострении хронического заболевания. Проводятся также плановые хирургические операции. Плата за дневной стационар составляет пять латов в день, если нет медицинского страхования (т. н. розовой книжки). А если больной из села, причем из отдаленной волости, и добраться домой затруднительно? В таких случаях к его услугам гостиница. Это еще 3 лата в день, плюс по 30 сантимов за завтрак и ужин. Следовательно, дневной стационар, ночлег и питание обходятся в 8,60 лата за сутки для тех, кто не застрахован. Медикаменты покупает сам пациент. Бесплатно их получают лишь те, кто имеет справку малоимущего.
— А если пациенту не по душе предлагаемые больницей лекарства, и он считает себя в состоянии купить более дорогие, лучшие?
— С разрешения лечащего врача — пожалуйста! Однако для нас это не актуально: как правило, все хотят лечиться подешевле и лишь в редких случаях пациент соглашается на дополнительные препараты, чтобы быстрее встать на ноги. Врач обычно рекомендует комплексные витамины и прочие лекарства, без которых можно обойтись, но которые способствует выздоровлению. В подобных случаях, если больной желает, то эти препараты покупает сам, в том числе и пациенты, доставленные “скорой”. Однако повторяю- это не обязательно. В свою очередь, для больницы государство установило перечень медикаментов, необходимых при лечении тех или иных заболеваний. Другие нам просто не оплатят, покупать самим не по карману. Кроме того, существует совместимость медикаментов. Поэтому замена любых лекарств и назначение дополнительных — это в компетенции исключительно лечащего врача.
— В вашем подчинении находится также пансионат “Приедес”. Насколько мне известно, мест в нем нет.
— В пансионате как было, так и есть 30 мест, все заняты. Однако для жителей края мы ввели такую услугу, как долгосрочные социальные койки. В плане пребывания и социальной помощи большой разницы между двумя этим структурами нет.
— А по оплате?
— Обитатель пансионата платит 90% пенсии, 10% остается на личные расходы. Например, из 150 латов он может рассчитывать на 15. Это все. Чтобы пансионат мог функционировать, средства на текущее содержание выделяются из бюджета краевой думы. Так делают не повсюду. Предусмотрены и такие ситуации, когда показаний для поселения в пансионат не имеется, но родственники непременно хотят устроить туда своих близких. Плата за услугу — 350 латов. В этом случае забирают всю пенсию, и если она ниже данной суммы, разницу вносит тот, кто помещает человека в пансионат. Скажем, к тем же 150 латам пенсии родственники доплачивают еще 200. Так что услуга платная, однако в ней нуждаются и ею пользуются.
В свою очередь, социальная койка обходится в 240 латов — так постановила дума. Учреждение забирает 90% пенсии, 10% остается человеку, а недостающую сумму вносит третье лицо, по чьей инициативе он сюда помещен. В нашей ситуации за этих людей платит социальная служба, по направлению которой они здесь находятся.
Собираемся привести в порядок помещения первого этажа лечебного корпуса, чтобы перевести туда пансионат и увеличить число социальных коек. Места хватает, однако необходимы солидные средства. Решаем вопрос в краевой думе. С социальными койками терпимо: в настоящее время их у нас десять, можем развернуть еще столько же. А вот пансионат заполнен: 30 мест — 30 человек. К тому же часть тех, кто сегодня занимает социальную койку, со временем может перейти в пансионат.
— Спасибо за ответы.
Юрис РОГА.





.jpg)


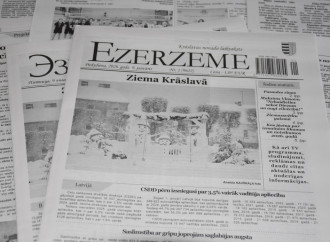

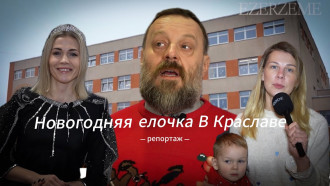






25.09.2020.JPG)













