Взгляд в прошлое (Продолжение. Нач. в № 44).
На краславской площади сразу же соорудили трибуну и стали проводить митинги. Были запрещены организации айзсаргов, скаутов и мазпулков, закрыли латышское общество. Над пожарной и в других общественных местах вывесили красные флаги.
Началась национализация земли, банков, предприятий, где более 10 рабочих мест.
Пошли аресты. Первым взяли под стражу кавалера ордена Лачплесиса А. Апариниека. Был назначен новый глава города — Владислав Пазауц, а прежний — А. Рускулис — в спешном порядке покинул Краславу. Нашей большой семье перестали выдавать мо-локо и масло.
Началась предвыборная кампания. Избиратели недоумевали: какие выборы, если предлагается фактически один список кандидатов? Для сравнения: на места в 1-м сейме Латвии претендовали 88 списков, во 2-м — 141, в 3-м — 120, в 4-м — 103.
Здание латышского общества превратили в народный дом. У некоторых краславчан это название вызывало определенные ассоциации. Вывеску кинотеатра “Лиго” на здании бывшего латышского общества сняли. Стали показывать только советские фильмы. Первые из них — “Юность Максима”, “Возвращение Максима” с Борисом Чирковым в главной роли и знаменитой песней “Крутится, вертится шар голубой…” Большой популярностью пользовались ленты “Веселые ребята”, “Мы из Кронштадта”, “Волга-Волга”.
Между тем, в магазинах начали расти цены. Так что лично мне инфляция знакома еще с 1940 года. Основной источник моего дохода — разжигание примуса по субботам в еврейских семьях (в праздник Шабат евреям нельзя работать). За такую работу платили от 3 до 10 сантимов. Я шел в ближний магазин и покупал конфеты. До 17 июня на один сантим выходили две конфетки в бумажной обертке. Потом за одну копейку стали отпускать только одну конфетку, а позже и за нее требовали уже две копейки. Так я испытал первое в своей жизни разочарование и на собственной шкуре ощутил, что такое инфляция.
Мои родители были хорошо знакомы с семьей Чужан — владельцами ресторана на углу улиц Ригас и Остас. У них было два сына: старшего звали Эдмундом, младшего Генрихом. Отцу и матери очень нравился старший, поэтому меня и удостоили чести носить его имя.
В конце 1940 года в городе появились антикоммунистические листовки. Меры последовали незамедлительно. В гимназию пришли чекисты и прямо в классе взяли Эдмунда Чужана, Антония Стыкута, Язепа Паулиня. Уже в даугавпилсской тюрьме они встретились с ранее арестованными Апарниеком и работником полиции Валюком. Впоследствии, как и сотни других, Эдмунд сгинул в Сибири.
Жизнь в Краславе стала другой. После национализации банков, предприятий, земли не у дел остались многие рабочие и служащие. В школах изменили программу, запретили уроки Слова Божьего и ввели новые предметы — Конституция СССР и история СССР. Создали пионерские и комсомольские организации. В городе открылись красные уголки, велась широкая агитационная работа.
Когда делегация нового парламента возвращалась из Москвы, для ее встречи на вокзале местные власти прислали несколько военных грузовиков. Молодые шли пешком. Поезд прибыл на перрон, из вагона собравшихся поприветствовали А. Кирхенштейн и В. Лацис. Назад в Краславу люди топали “своим ходом”.
Тем временем напряженность в мире возрастала, Германия сконцентрировала в своих руках огромный экономический потенциал. В Прибалтике начались репрессии: пострадали государственные деятели, хозяйственники, военные, интеллигенция. Этих людей обвиняли в заговоре против советской власти. В июне 41-го началась расправа с командным составом латвийской армии. Одни погибли в Литене, остальных вывезли. В Даугавпилсе схватили последнего главу Краславы А. Рускулиса. Впоследствии он и жена погибли в Сибири. Кульминационной датой стало 14 июня: арестовали и выслали более 15 тысяч жителей Латвии. Среди них краславчане Чужан, Бутин, Трачум и другие (это фамилии людей, которых я знал).
На войне как на войне
Год сорок первый, июнь, 22-е. Германия напала на Советский Союз. У населения стали отнимать радиоприемники, причем не только в городах, военные разъезжали и по деревням. Те, кто отказывался их сдавать, позже пострадали. Горожане видели, как вели в милицию трех священнослужителей (позже их нашли в сарае присыпанных землей).
Хотя Краслава и осталась в стороне от направления главного удара немецкой армии, с 25 июня началась ее оборона силами Пермской дивизии под командованием Зороастрова, впоследствии автора книги “Это было под Краславой”. Прибыли механизированные части, несколько пушек установили в конце улиц, ведущих к Даугаве: не исключено, что противник будет форсировать реку. Мы, мальчишки, гонимые любопытством, пытались подойти как можно ближе к орудиям. Через пару дней из Верхнедвинска прибыли измученные стрелковые подразделения. С помощью горожан вдоль всего берега Даугавы в черте города соорудили противотанковый вал.
При первой же бомбежке сгорела деревянная православная церковь (располагавшаяся там, где теперь краевая дума). Две бомбы угодили в здание Латышского общества. В последнем налете разбомбили наш дом.
Бои за город начались 1 июля, а на другой день в Краславу вошли немцы. Попытка отбить город, пред-принятая советскими войсками, занявшими оборону в восточной части, была безуспешной, погибло несколько десятков солдат. Днем позже Красная армия откатилась на восток. На краславских домах появились национальные (красно-бело-красные) флаги.
В первые дни оккупации военнопленных “раздавали” местным крестьянам (например, в Наудишах был Борис Никифоров). Но вскоре стали формироваться партизанские отряды и поступил приказ привозить их в комендатуру. Во время прогулки у малой мельницы был застрелен генерал Отто Скорцени. Репрессий не последовало, после церемонии в лютеранской кирхе генерала похоронили вместе с другими воинами (там, где теперь памятник советским солдатам).
Позже, в 1943 году, всех немцев перезахоронили на кладбище в Даугавпилсе.
Немецкая оккупация принесла многострадальной Латвии новые беды. Вначале люди встречали немцев как освободителей: по радио снова звучал латвийский гимн, на улицах вывесили национальные флаги. Но вскоре стало ясно: на смену одному оккупационному режиму пришел другой.
С первых же дней всех евреев обозначили желтой шестиконечной звездой. Начались расправы. На стрельбище, правее теперешней эстрады, убили делопроизводителя городского совета Леона Мицкевича, комсомолку-гимназистку Марию Крумпан и еще нескольких активистов. Очевидицей казни стала одна краславская девочка, она и указала отцу Мицкевича, где погиб его сын. Рискуя жизнью, он откопал тело и положил на голову убитого ящик: полагая, что Красная армия вот-вот ввернется, и тогда он похоронит сына по-человечески. Об этом Мицкевич рассказал в конце 50-х, когда производили перезахоронение.
Летом 41-го большую группу еврейских семей погнали в даугавпилсское гетто. Оставили только ремесленников да зажиточных. Но не надолго: наступил трагический день, когда за городом расстреляли последние еврейские семьи. Однако Барканы сумели спастись. Кто-то подсказал главе семейства, чтобы ночью они покинули дом. Рискуя жизнью, кузнец Спиридовский по очереди переправил семью через Даугаву. Всю оккупацию они скрывались в белорусской семье Кижло.
Через год, летом 42-го, молодежь стали угонять в Германию. Иногда хватали прямо на улице. Держали в бывшей графской библиотеке. На принудительные работы в рейх отправили двоих моих братьев, двоюродного и родного, а также сестру. Им было от 15 до 17 лет. По-разному сложились впоследствии их судьбы: концлагеря, ГУЛАГ…
Поскольку семья осталась без крова, нам дали жилье на первом этаже дома Кагана на главной городской площади, так что хорошо было видно все, что на ней происходило.
Осенью 43-го немцы привели нескольких плотников и велели поставить виселицу. На припорошенной первым снежком подставке трое суток оставались следы первой жертвы — Ляпера, якобы прятавшего советскую парашютистку. Три дня жильцы дома были вынуждены смотреть на это зверство.
Мой дядя сохранил радиоприемник. С большой осторожностью слушал его, потому знал о разгроме немцев под Москвой, а затем под Сталинградом. Кстати, после пленения армии Паулюса оккупационные власти велели вывесить немецкие флаги с траурными лентами.
Еще летом 43-го восточнее Краславы немцы начали валить лес и рыть окопы. Последняя из трех линий обороны располагалась в 100 метрах от больницы. Началась мобилизация в латышский легион. Матери и жены со слезами на глазах провожали своих мужчин до вокзала.
Между тем приближалась линия фронта. Немцы поставили понтонный мост и множество понтонов через Даугаву, на берегах установили зенитки. В июле сорок четвертого стали привозить убитых и хоронить их в парке (где теперь стоит крест). У всех, кто попадался на пути, отбирали паспорт и заставляли копать могилы. С каждым днем они становились все шире — уже на десять и более человек. Сразу после войны это место сровняли с землей и посадили деревья. Вандализм тех времен виден по сей день: на лютеранской кирхе отсутствует шпиль.
Эдмунд ГЕКИШ.
(Продолжение следует).





.jpg)


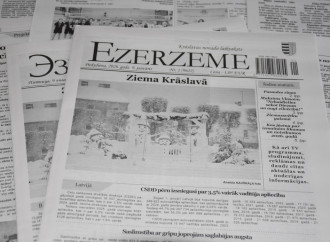

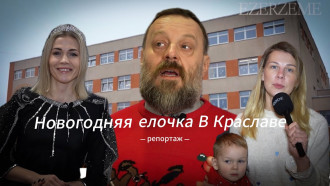






25.09.2020.JPG)













