Валентина и Болеслав Вятеры свадьбу отпраздновали в 1951 году, как было принято в те времена — на два конца. Обе их дочери уже взрослые, имеют собственные семьи: Скайдрите живет и работает в Алуксне, Зинаида — в Риге, уже на пенсии.
Кроме этого, Вятеры гордятся внуками — все образованы, имеют работу. У Скайдрите в семье выросли сын и дочь. У Зинаиды — тоже, а совсем недавно дочка сама стала мамой. Раньше дочери Валентины и Болеслава приезжали к родителям вместе со своими детьми, теперь же — как когда. Ведь внуки выросли, у всех — свои интересы.
Можно сказать, что Вятеров свело в юности стечение обстоятельств. Как-то на общем колхозном собрании Валентина подала заявление с просьбой отпустить ее — поедет, мол, в Дагду, мороженым торговать. После этого молодые люди вместе пошли домой, по дороге разговорились. И вдруг Болеслав сказал: “Может, поженимся?!” Оба были знакомы и раньше, благодаря вечеринкам, а еще тому, что родительские наделы располагались рядом. Вот так Ва-лентина и не попала в Дагду, не стала продавцом мороженого — приняла неожиданное предложение. Сегодня оба твердо убеждены в том, что вместе прожили замечательную, счастливую жизнь. Не мешала даже большая разница в возрасте: Болеслав родился 21 января 1917 года, Валентина — 13 августа 1929-го.
У родителей Валентины было семеро детей: Константин, Янина, Эдвард, Янис, Анна, она сама и Годфрид. Поскольку отец был хорошо образованным, все дети также получили неплохое образование — в основном педагогическое, один стал ветеринаром. К сожалению, Константина, Янины, Эдварда и Годфрида уже нет на этом свете. Выйдя замуж, Валентина переехала жить к мужу, который один остался в отцовском доме. Живут в нем по сей день. Валентина стала домохозяйкой, а еще работала в колхозе: куда бригадир пошлет — туда и отправлялась. Дом Вятеров, как и в пору их молодости, сегодня очень уютный и ухоженный. Несмотря на преклонный возраст, супруги заботятся также о том, чтобы опрятным был двор. Конечно, самому дому требуется ремонт, тем не менее — честь и хвала его обитателям. В свое время Вятеры имели большое хозяйство — была корова, лошадь, свиньи, овцы. Но с приходом советской власти все было отнято. К счастью, ужасы Сибири миновали семью — слуг не было, хозяева со всем справлялись своими силами.
Юность Валентины была относительно спокойной. А Болеслав о годах молодости говорит: “У меня юность была — шурум-бурум. Призвали на службу в армию. Но началась война, с которой закончились все радости, вечеринки и развлечения. Большую часть своей жизни провел здесь, в своем доме, который построил отец, Ян Янович. Раньше в здешних краях жили трое Вятеров и все три Яниса. У родителей было три сына и две дочери: самый старший — Донат, затем были Петерис, Леокадия, я (младший из братьев) и сестра Антонина. Пока были молоды — жили с родителями. Но война разлучила нас. Петерис получил ранение в грудь, лечился в сибирской больнице. Когда вернулся домой, хорошо, если год прожил — его не стало. Донат тоже был ранен — в ногу. Осел в Риге, работал там на торфянике. Сестры, выйдя замуж, уехали из родительского дома, но недалеко — Леокадия жила в Румакове около Асташова, Антонина — в Магнусове, что за Константиново. Из всех детей живы лишь двое — я да Антонина”.
По достижении соответствующего возраста Болеслав был призван в Курземский полк Латвийской армии. Располагалось подразделение в Лиепае, здесь же служил старший брат Донат. Когда Латвию оккупировало большое соседнее государство, оно переняло Курземский полк, и все солдаты стали частью чужой армии. На фотографии тех лет Болеслав позирует еще в форме Латвийской армии, но уже в головном уборе красноармейца.
“Я служил артиллеристом. Когда русские переняли наш полк, назвали его, если не ошибаюсь, 154-м. Они собрали и ликвидировали все оружие латвийской армии, всучив нам ни на что не годные свои орудия. У наших был тормозной механизм, тащили их шесть лошадей. При движении с горы нужно было притормаживать, чтобы не раздавило животных. А у русских орудий тормозов не было, поэтому, чтобы замедлить ход, приходилось в колеса вставлять слегу.
Если считать время службы с момента призыва в Латвийскую армию, можно было уже отправляться домой, но нас не отпускали. Подумал было, что отсчет службы начался с того времени, как нас приняли в другую армию. Служил я вместе с двоюродным братом. Домой, в конце концов, отпустили, а вот документы не выдали, обещали позже выслать. И еще сказали, что отпускают на время — мол, скоро увидимся. В пятницу приехал домой, а в воскресенье в комнату вбежал сосед и сказал, что началась война. А у меня — ни документов с места службы, ни паспорта, все осталось в части”.
С тех тревожных времен прошло немало лет, и память Болеслава порой подводит, а иногда всплывают самые яркие моменты. Он вспоминает: когда в Латвию вошли немецкие военные силы, многих людей посылали на работу — строить второй путь на железной дороге, чтобы поезда могли беспрепятственно разминуться. Проложили до Индры. С тех пор даже фото сохранилось. Когда работа была закончена, Болеслава вместе с остальными отправили в Резекне, и вновь на железную дорогу. Осенью вместе со знакомым они сбежали домой. Полиция начала искать беглецов, их поймали и посадили в Даугавпилсскую тюрьму, затем переправили в Ницгальский лагерь. По воспоминаниям Болеслава, есть в тюрьме давали совсем мало. А вот в лагере заставляли работать, но и кормили лучше.
Ближе к концу войны Болеслав оказался в Курземском котле, где строил защитные валы.
“Война перебрасывала людей с места на место. Наш трудовой батальон оказался в Эстонии, — продолжает Болеслав. — В порту стояло три корабля. Нас загнали на них. Но как только вышли из порта, русские самолеты принялись бомбить. В итоге атака была отбита — с помощью корабельных и наземных орудий. Из Эстонии мы плыли ночью, сопровождал нас военный корабль. В море суда разошлись, и наш причалил в Вентспилсе. Прямо с порта послали в Курземский котел. Сколько там перерыли! Но ничего так и не было использовано. Немцы были весьма прозорливы. Бункер они обычно строили таким образом, чтобы бомба упала в переплетенные ветви и не повредила сооружение. Для самообороны нам выдали винтовки, но воспользоваться ими так и не пришлось.
Пока мы занимались возведением защитных валов, никто дома не знал, живы мы или нет — не было никакой связи. Да и топлива тоже не было, машины передвигались на дровяном отоплении — тогда использовали газовые генераторы. Что касается еды, то она и вовсе была отвратительной: на весь день — маленький кусочек хлеба в два пальца толщиной и полпальца длиной — вот и вся еда! А однажды перед Рождеством нам дали кусок хлеба на два дня и пообещали, что на праздник получим дополнительный паек. Хлеб съел, а когда наступили праздники — есть было нечего. И вот иду я по Вентспилсу и слышу — в одном доме на аккордеоне играют, уже празднуют. Я им так прямо и говорю: “Вы не знаете, что я два дня ничего не ел!” Тогда мы питались всем, что удавалось найти. Мой двоюродный брат, всю войну отслуживший в советской армии, рассказывал, что одно время русские солдаты питались древесной корой — ничего больше не было. До тех пор, пока Красная армия не организовалась и не погнала немцев со своей территории. Потом еще и американцы помогли. Русские наступали, немцы отступали. А мы в Курземском котле подняли белые флаги. На этом война для меня закончилась. Когда пришли русские, солдаты рассказали нам: там, где воевали против немцев, те отступали либо сдавались в плен, а латыши сражались до последнего, не сдаваясь. Такие вот были времена.
Из Лиепаи отправлялась машина с одной семьей. Кое-как договорился с ними, чтобы довезли до Риги. По дороге на контрольно-пропускном пункте у меня отняли трофейные брюки, а ничего кроме них у меня не было. В Риге раздобыл документы, продукты на несколько дней и доехал до Крустпилса. Там проверяли паспорта, а у меня его не оказалось. Потому спрыгнул с вагона и пришлось пешком идти до Даугавпилса. А уже оттуда — то один подвезет, то другой. Так и добрался до дома. Никто меня не трогал. Вначале работал на отцовской земле, затем в колхозе строителем — возводили фермы”.
Юрис РОГА.





.jpg)


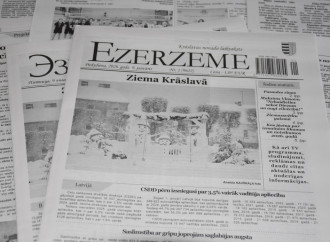

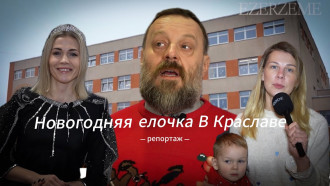






25.09.2020.JPG)













