Благодаря фотопленэру-мастерской “Краслава 2010” жители района узнали, что известный керамист, директор Краславской художественной школы Валдис Паулиньш является также хорошим фотографом.
Его персональная выставка открыта в Краславском доме культуры. Валдис уверяет, что этот факт своей биографии он и не скрывал, просто им никто не интересовался.
Кстати, далеко не всем известно и другое: керамикой он стал заниматься в 1979 году, когда поступил в Резекненское художественное училище, а первую печь обжига поставил в 1982 году, в “Акменишах” Каунатской волости. С 1999-го по 2001 год Валдис учился в Даугавпилсском пединституте, защитил диплом на тему “Черная керамика”. Выставлял свои изделия в Латвии, России, Польше, Германии, Швеции и других странах. Многие из них стали достоянием частных коллекций. В 1987 году Валдису присвоили звание мастера Народного прикладного искусства. Имеет две керамические мастерские — в Краславе и в “Паулинях” Граверской волости. В 2004-м Паулиньш получил диплом Латвийской камеры ремесленников, в 2007 — степень магистра в области искусства. Фотография для него является серьезным хобби, а осваивал это искусство самоучкой.
— С чего все началось? Благодаря кому или чему ты взял в руки фотоаппарат?
— В некотором роде это было стечением обстоятельств. С 1971 по 1975 год я учился в Дубульской восьмилетней школе Резекненского района. Но оттуда меня переманили в Эзерниекскую среднюю, которую окончил в 1979-м. Тогда, как и теперь, тоже призывали быть патриотами родного края, отдавать предпочтение своей школе, обещали транспорт до школы и обратно. Какое-то время так и было — пока обещания не забывали…
В те годы я много ходил пешком — из Гостиней напрямик через Кумпини — если случалось опоздать на транспорт. По пути жил мой дядюшка Волдис Индран, время от времени он фотографировал. У него был весьма неплохой, популярный по тем временам фотоаппарат “Смена 8М”. Однажды он вручил его мне со словами: “Попробуй, если понравится — отдам и другие приспособления!” Он имел обычный увеличитель “Искра”, который в хороших руках превосходил более дорогие. С помощью “Искры” получали крупноформатные снимки, проецируя изображение на стенке или на полу. Можно было также скопировать нужный фрагмент кадра. Другая техника такой возможности не давала, у “крутых” величина хода не превышала 70-80 сантиметров.
Первые снимки я делал вместе с дядей, и процесс мне пришелся по душе. Ощущал себя волшебником, глядя в освещенную красной лампой ванночку с замоченной фотобумагой, на которой невесть откуда проявлялось изображение. Это меня и “зацепило”. Стал интересоваться фотографией в школе, искал нужные книги в Эзерниекской библиотеке. У другого дяди нашлась книга “Практическая фотография”, которую он мне отдал. И, похоже, попал в точку: привить молодую яблоньку намного эффективнее, нежели бесчисленное количество раз пытаться омолодить старую. Знания, которые я тогда получил, служат мне по сей день. Не так давно на семинаре по повышению квалификации я мог со знанием дела дискутировать с далеко не глупым специалистом, занимающимся цифровыми технологиями.
Немаловажную роль в моем фотопросвещении сыграл также эзерниекской учитель Александр Журов. На цокольном этаже при кабинете физики была лаборатория. Как-то заглянул туда, увидел четыре фотоувеличителя и почему-то запомнил их на всю жизнь. Но была у меня проблема: не мог задерживаться по вечерам в школе, так как до дома далеко. Однако иногда такая возможность появлялась, а однажды учитель даже “отпросил” меня с уроков: надо было заготовить жетоны для вечера абитуриентов. Ни копировальных установок, ни принтеров, ни сканеров тогда не было. Я сделал снимки жетонов без помощи реле, просто отсчитал в уме секунды, и все получилось. А еще помню, что в школе были фотоаппараты “Зоркий” и “ФЭД”, а вот “Зенита” там не имелось.
— Как ты купил свой первый аппарат?
— “Смена 8М”, подаренная дядей, была неплоха. Однако хотелось новый аппарат, свой. После Эзрениекской средней школы поступил в Резекненское училище прикладного искусства и с 1979 по 1983 год осваивал художественную керамику. Тогда скопил деньги и приобрел первую зеркальную камеру “Зенит Е” со съемным объективом “Гелиос”. Покупка обошлась примерно в 100 рублей. Более дешевые фотоаппараты этой марки были с объективом “Индустар”, мне же хотелось лучшее из возможного.
Чтобы заработать, занялся халтурками. Поначалу на весьма примитивном уровне. Моим первым заказом стали кошачьи похороны. Некая закостенелая старая дева держала дома около десяти кошек, и когда одна из них отошла в мир иной, решила похоронить ее по-настоящему. С фотографом.
Примерно полгода снимал однокурсников. Потом скооперировались — я, Густав Брок, Марис Томашицкий, сын известного скульптора. Однокурсники дразнили нас, обзывали монополистами, американцами, бизнесменами — за то, что фотографировали платно. Не понимали ребята, что фотобумага, химикаты, да и время стоят денег. Изредка дарил фотографии, хотя моя семья не была богатой. Родители давали пятерку на неделю, однако мне хватало, даже оставалось. Но это уже другая история.
Вначале один сам ездил по колхозам, фотографировал детские праздники, другие мероприятия. Густав с Марисом быстро сообразили, что втроем будет легче. Мы были не только единомышленниками, но и дополняли друг друга. Марису дед разрешал пользоваться автомашиной, в которой и ездили на халтурки. Причем не только фотографировали. Как будущие художники, красили церкви, занимались имитацией витражей и так далее. Поскольку я уже имел определенный опыт, попробовали снимать крупные мероприятия. Густава больше тянуло к оформительству, фотографией он не увлекался, хотя имел добротный “Зенит” и две отличные вспышки с крепкой рукояткой: одну устанавливали на фотоаппарат, другую держали в руке. Густав предложил: “Буду у вас осветителем!” Так мы и колесили — большей частью ради приключений, а не заработка. Жили весело: как только появлялись деньги, тут же устраивали вечеринку и все спускали. На турбазе “Эзерниеки” в те времена можно было купить коньяк “Наполеон”. Стоил он 40 рублей, но пить простую водку за четыре рубля было ниже нашего достоинства.
— К сожалению, или к счастью, ничто не вечно под луной. Однажды заканчивается и беззаботная жизнь...
— Близилась армейская служба. Незадолго до призыва с друзьями что-то отмечали в резекненском кафе. Я не курил, поэтому вышел из задымленного зала на улицу, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Когда вернулся, моего “Зенита” уже не было. Ничего не заметили и приятели. Все “подшофе”, скандалить не стали — нет так нет.
В Резекненском военкомате, проверив здоровье, признали: “Годен к службе на подводных лодках!” Это мне совсем не понравилось. Альтернатива — Тамбовская область. Тоже радости мало, тем более, если вспомнить крылатое выражение: “Тамбовский волк тебе товарищ”. Из Резекне призывников повезли в Ригу, в так называемый “обезьянник” — уж больно походили мы друг на друга. Там мне и довелось случайно заглянуть в документы: так и есть, Тамбов! Ну, хотя бы так. Тут подходят прапорщик с капитаном, указывают на меня пальцем и велят садиться в машину. Словно мы не люди, а робо- ты. Со мной сели еще несколько человек. Едем. Темно, но мне почему-то казалось, что везут в аэропорт. А когда остановились на улице Абренес, от радости чуть не воскликнул: “Мы дома!” Всем выдали новое обмундирование, отправили на карантин. “Деды” поинтересовались, есть ли среди призывников художники. Сообразил, что надо быстренько записаться, это лучше, нежели драить им сапоги, стирать или чистить картошку. А тут еще художник в клубе демобилизовался, и ефрейтор стал интересоваться, есть ли среди нас толковый парень. Так меня откомандировали в подчинение майора с латышской фамилией Гулбис. Позже выяснилось, что он — обрусевший латыш. Перечислили мои обязанности: киномеханик, фотограф, художник, нарисуешь лозунг или плакат, сбегаешь на почту. Все это более или менее мне знакомо, вот только буквы с человеческий рост на холсте выводить не приходилось, уличные же шествия в праздничные дни тогда были в почете. Постепенно вошел в колею. А тут понадобились фотографии для Доски почета. Все засуетились: что делать, ведь это портрет, это сложно! Я ответил — попробую, только купите хороший “Зенит”, и все получится. Кое-какой увеличитель имелся, приобрели аппарат с системой TTL — еще лучше, чем тот, который у меня украли. Сфотографировал, сделал снимки нормального размера. Всем понравилось. Поскольку служил связистом, в часть с фототехникой вход был воспрещен, разрешалось только в клуб. Нельзя было снимать военную технику, тиражировать. Моя воинская специализация в те годы — военкор и начальник радиостанции, обеспечивающей связь через космос. Так что мог без проблем позвонить домой.
Старался ничего не нарушать, но служба в армии — дело непрогнозируемое. За невыполнение приказа едва не “загремел” на пять лет в дисбат. Место для ночлега обустроил прямо в клубе. Солдатские проблемы офицеров не волновали: мол, как хочешь, но чтобы до утра работа была сделана. Со временем я привык ночевать в клубе. Но тут Устинова сменил Соколов, началась перестройка и в части. Однажды возникли разногласия с новым командованием: вместо того, чтобы находиться в части, я остался в клубе. Что тут началось! Подняли на ноги всех, взломали входную дверь. Я же в своей каморке ничего не слышал. От наказания меня спасли высокопоставленные лица, ко- торым делал фотографии. В 1985-м благополучно вернулся домой и вскоре устроился в Краславский ДК, где до 90-го года проработал руководителем кружка керамики.
— И забыл о фотографии. Почему ты махнул на нее рукой?
— “Зенит” украли, а без оружия ты не воин. Только что из армии, без рубля в кармане — что я мог себе позволить? Положение изменилось в 95-м, когда стал ди- ректором Краславской художественной школы и преподавателем керамики. Однажды поехал по служебным делам в Ригу. До отъезда домой оставалось три часа, и решил наведаться на “блошиный рынок”, известный как “Латгалите”. В мыслях уже не раз допускал возможность приобрести “Зенит”, пусть даже подержанный. На базаре одна рухлядь. Однако мне подсказали, как найти человека, торгующего вполне добротными “Зенитами”. Мол, он пенсионер и подрабатывает на продаже фототехники, так сказать, своего рода предприниматель. У этого старичка мне и удалось за 15 рублей купить отличный “Зенит”.
— Что интересного удалось тебе сделать с помощью своего фотоаппарата?
— Между прочим, я обнаружил у “Зенита” такую функцию, как длительная выдержка. Знакомые уверяли, что у этого аппарата ее нет. Это так, однако с таким же успехом можно было воспользоваться автоматическим спуском затвора, а с помощью диафрагмы установить свет.
С самого начала я увлекался макросъемкой. “Смена 8М” — аппарат незамысловатый и ничего подобного не предлагает. Где-то прочитал о принципах работы камер в крупных фотоателье: луч света проходит через линзы и проецируется на матовом стекле. Устанавливают резкость, заряжают пленку, отодвигают шторку и на короткий миг снимают крышку объектива. Ну, думаю, надо попробовать. Нашел неисправный фотоаппарат, кажется, “Vilia-auto”, у которого затвор не действовал, а диафрагма нараспашку. Вытащил матовое стекло из увеличителя — ура, работает! А если приложить объектив, уже подогнанный для того, чтобы проецировать изображение на стекле? Снимок яблока, выполненный на “Смене 8М”, могу показать хоть сегодня.
Умудрился печатать снимки даже на майках, что удавалось не каждому. Ткань следовало вымочить в нескольких составах, самое трудное — найти ляпис. Причем это не краска, потому футболки можно было смело стирать. Получались невероятные вещи. Торговлей не занимался, работал исключительно на себя. В зените славы тогда были “АББА”, “Бони М” и другие группы. Майки с их фотографиями обычно покупали у моряков за бешеные деньги. Я же носил собственные.
— Поскольку людям свойственно суеверие, вместо украденного “Зенита” ты наверняка купил точно такой же…
— Как я уже сказал, увлекаюсь макросъемкой. А “Зенит” приобрел потому, что уже имел все приспособления к нему — кольца, гармошку, объективы. Остановил свой выбор на аппарате более высокого класса и приступил к макросъемке. Тем более что благоприятствовала работа в художественной школе. На выпускной дети приходят с цветами, и как только вижу на них муху, тут же снимаю крупный план. Это и стало точкой отсчета.
Когда служил в армии, взял себе в помощники парня-латыша по имени Андрис, избавив от большой беды. Увидел его в “учебке”, бедняга был совсем загнан. Я же пользовался авторитетом, вот и стал сетовать, как трудно одному и не помешал бы помощник — чтобы на почту ходить, рамы носить, выполнять другую черную работу. Раз надо, бери, не жалко! Случилось так, что один из нашей части демобилизовался, я и позвал Андриса. После увольнения в запас мы с ним объездили все побережье — до Вентспилса и Ужавы. Каждый год выбирали новый маршрут. Андрис был поклонником “Зенита”, к тому же фотографировал его отец. После одной из поездок Андрис неожиданно быстро разжился цифровой мыльницей “Canon PowerShot”, модель не помню. Что и говорить — зверь! Микро-, макрорежимы, суперлегкий. А почему бы мне не купить, причем еще лучший? Минуло полгода, техника продвинулась, и я выбрал “Canon PowerShot A95”, с откидным монитором. Без проблем можно вести съемку из-за угла, снизу, сверху. Совсем не обязательно ползать по земле в поиске низшей точки, поворот монитора — и все видно. Даже на видео снимать можно. Фотокамера жива-здорова по сей день, работает безупречно. Хоть и мыльница, но вес все же ощущается.
Спустя время купил профессиональную 8-пиксельную цифровую зеркальную камеру “Canon EOS 350D”, с широчайшими техническими возможностями. Однако уже мечтаю о “Canon EOS 60D”, и полагаю, что на Рождество сделаю себе такой подарок. Старую же отдам дочери Лиге, которая тоже увлекается фотографией.
— Ты просто верен одной марке, либо на то есть иные причины?
— “Canon” для меня — любовь всей жизни. Хотя бы потому, что к ней подходят все ранее купленные объективы и прочие приспособления. Кстати, 350-я модель досталась мне не совсем обычным способом. Однажды художники собрались на пленэр в Даугавпилсе. Я тоже туда поехал — порисовал, побыл с керамистами, устанавливавшими печь. Увидел директора Салацгривской художественной школы, керамиста Иманта Клидзейса. Он привез на распродажу целую сумку фототехники, поскольку сам решил сменить марку. Ходил вокруг и спрашивал у всех: не нужно ли что-то для фотоаппарата “Canon”? Я знал, что самая дорогая деталь — телеобъектив, и поинтересовался, сколько он стоит. Мол, тебе отдам за сотню. Юбилейный экземпляр, с металлической оправой — грех не взять такой. Ничего не оставалась, как только прикупить сам аппарат.
— На персональной выставке в Краславском доме культуры можно увидеть твои пейзажи, портреты, макрофотографии. Профессионалы отрасли высоко оценили снимок с видом на Даугаву. Как рождаются такие фотографии?
— Даугаву я снимал часто. А помогает мне образование в области искусства. Если человек не обладает чувством композиции, его не спасет даже самый дорогой в мире фотоаппарат. Итог будет тот же, что у подвыпившего мужика, которому дали фотоаппарат и затолкали в кусты. Что-то нащелкает, а смотреть нечего.
— Спасибо за интервью и творческих успехов!
Юрис РОГА.





.jpg)


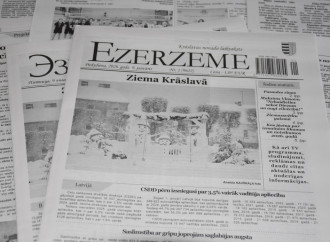

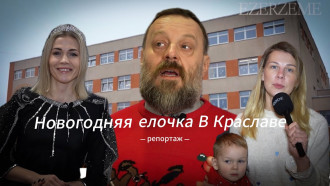






25.09.2020.JPG)













