Нина Станкевича — сибирячка. Когда она училась уже в 11-м, выпускном классе, ее семья переехала из Забайкалья в Тамбов. А затем, с аттестатом об окончании средней школы, девушка отправилась в Даугавпилсский педагогический институт, изучать филологию. Освоив профессию, Нина начала работать в Лабиешской школе Свариньской волости, и осталась здесь жить.
После 17-ти проработанных в учебном заведении лет она получила партийное функциональное предложение — вступить в должность председателя Свариньского сельского совета. Так 10 лет (1984—1994), Нина проработала на новом месте, став главой сельского самоуправления.
Формальная власть
“В годы советской власти на селе, по сути, руководили местные первичные партийные организации, а также колхоз или совхоз. Сельский совет являлся лишь формальной структурой, — делится воспоминаниями Нина. — Нам нужно было следить за выполнением законов, однако реально никакого влияния наша структура не имела. Мы выполняли функции загса, в некоторой мере определяли политику культурной жизни села, что в основном выражалось в оказании помощи, наряду с местной партийной организацией и профсоюзом. Самой неприятной обязанностью сельсовета, думаю, была забота о выполнении плана по сенозаготовкам на неиспользуемых в сельском хозяйстве землях.
Мы всегда выполняли все планы, несмотря на то, что порой сделать это было очень непросто. План по заготовке сена был особенно большим. А люди, между тем, и так работали на селе практически без выходных, ничего не успевали сделать на собственных подворьях. Поэтому они сами просили совхоз о выделении сена, а тут с них еще и требовали. Приходилось искать пути выхода, чтобы помочь сельчанам. Допустим, отправился человек на заготовку совхозного сена, а затем мы часть его отмечали в плане.
Впрочем, были и приятные моменты. Хозяйство чествовало самых старательных работников, вручались награды. А еще были профсоюзные путевки, совхоз организовывал экскурсии. В мое время жители Свариней побывали в Волгограде, Фрунзе, Ташкенте. Да и в целом люди были более дружными. Большие праздники отмечали совместно, в клубе. Вплоть до начала антиалкогольной кампании здесь праздновали свадьбы и юбилеи. Организовывались масштабные культурные мероприя-тия. Конечно же, все это нельзя сравнить с нынешней культурной жизнью под руководством Эрны Шляхоты, но вот такой дружелюбной атмосферы уже не ощущается. Теперь каждый сам по себе”.
Предвестники разрухи
“Так было до 1985 года, когда к власти в стране пришел последний генсек СССР Михаил Горбачев и начал свою антиалкогольную кампанию. Вот тут-то и началось! Самые неприятные обязанности легли на наши плечи. Нужно было отлавливать употребляющих алкоголь, судить их за пьянство, следить за тем, как работают магазины, что и когда продают. Это была самая неблагодарная работа, ведь в небольшом селе все — как родные. К тому же, “карателями” мы стали неожиданно, люди не поняли столь стремительных перемен и у них создалось впечатление, что этим занимаемся только мы — сельский исполком, в котором состояли председатель совета, директор, руководитель профсоюза, парторг и еще кто-то.
По документам все штрафы проходили как решение исполнительного комитета. Точные суммы не помню, но каждому из наказанных пришлось расстаться с примерно 40 рублями. В те времена это был не столько денежный вопрос. Сам факт наложения штрафа был для человека очень неприятен. Тогда даже не предполагали, что ожидает всех нас уже в самое ближайшее время. Начались очереди, в магазинах практически ничего нельзя было купить. Если и завозилось что-то ценное, то только 3-4 единицы на всех, или пара килограммов. В один момент дефицитом стали белье, мебель, бытовая техника. Люди начали ездить в Польшу приторговывать. Те, кто занимался этим, ловили любой удобный момент, чтобы купить что-то стоящее.
И вот мы дождались времени распределения завезенных в магазин продуктов. О таком “эксклюзиве”, как, например, консервированный зеленый горошек, мы слыхом не слыхивали. Все хотели получить всё, но как это разделить? Дефицитный товар еще не завезли, но все уже знают, что будут продавать. Очередь у магазина выстраивалась с шести утра. Дошло до того, что на такие продукты, как, например, растворимый кофе, составляли длинные списки, по которым затем выдавали товар.
Наши списки устанавливали определенный порядок: кому следует выделить дефицит в первую очередь, кому — в последнюю. Но мы всегда старались сделать так, чтобы каждой семье досталась банка кофе или другой необходимый продукт. Чтобы никого не обидеть, в основном раздел производили по бригадам: в этот раз — одной, в следующий — другой. И вновь все это — на наших плечах, и снова — масса недовольных. Когда происходит дележка, людям всегда кажется, что другим досталось больше, кто-то присвоил все лучшее или отдал своим, хотя для таких обвинений не было никаких оснований”.
А в Белоруссии есть всё…
“В этот самый период в районе началось время раздела крупногабаритных товаров — мебели, большой и малой бытовой техники. В Дагде выстраивались небывалые доселе очереди. Вначале товары получали инвалиды, ветераны войны, многодетные семьи, а остальное распределялось между городом и селами. Система эта существовала много лет. И за все это время наши жители “удостоились” одного спального гарнитура, комплекта мебели для гостиной, небольшой морозилки, которая была новым товаром на рынке. Мы долго ломали голову: как это разделить? Как узнать, кто в чем больше всего нуждается?
Создали списки, однако посыпались обвинения в том, что они составлены нечестно, мол, фамилии в очереди переместили. Тогда предложили писать заявления, что позволяло контролировать создание списков согласно этим документам и дате. Кто первым написал — тому товар и выдавали.
Параллельно с этим возник еще один орган — совет трудящихся, в который входили не только рабочие нашего совхоза, но также представители сель-совета, фельдшер и пр. Кстати, именно на совете трудящихся было принято решение отдать морозилку директору совхоза Донату Голубу, который всю жизнь заботился об односельчанах, переживал за них. Уже в то время он пользовался авторитетом среди местных жителей, поэтому никто против такого решения — по крайней мере, открыто, — не выступил.
Однако это был единственный случай, в дальнейшей работе упреки при- шлось выслушивать практически ежедневно. В то же самое время сложилась очень интересная ситуация: можно было поехать в Белоруссию и привезти все, что душа желает: мебель, холодильники, только что появившиеся на рынке и мгновенно ставшие популярными цветные телевизоры, прочие вещи. Но люди хотели все купить на месте”.
Эра талонов
“Затем настало время талонов, причем практически на все товары первой необходимости: крупы, растворимый кофе, сахар, водку, мыло, шампунь. И снова обязанность по выдаче талонов выпала нам. Здесь тоже были недовольные. Любому понятно, что сахар — самый необходимый на селе продукт: у всех есть сады, плодовые деревья, всюду множество фруктов. А что сделаешь с килограммом сахара в месяц? И пусть в летние месяцы выдавали больше, это положения не спасало, особенно когда живешь один или вдвоем. Вот если в семье 5-6 человек, полагающегося сахара было достаточно. Доходило до того, что в один год заключили договор с Екабпилсской сахарной фабрикой, которая предлагала людям самостоятельно выращивать сахарную свеклу и отдавать на переработку.
Подписали документы, привезли семена, посеяли. Но вот беда: именно тот год выдался неурожайным, свекла не выросла, и все пошло прахом. Свеклу сеял совхоз “Восход”, занимался первичной обработкой посадок, а дальше — каждый сам за себя. Помню, фабрика обещала мешок сахара за 3-4 сотки”.
А теперь — о хорошем
“Неоценимым достижением этого времени было то, что весь переизбыток сельхозпродукции люди могли реализовать, и для этого не нужно было выращивать тонны и даже центнеры. Заготконтора принимала продукцию в любых количествах, и люди сдавали, у кого что было. Теперь у нас пару мешков яблок деть некуда, урожай пропадает. Вот если б тонна была — другое дело.
Еще одна интересная черта того времени — в людях ощущался истинный дух патриотизма: это моя земля, мой поселок, кладбище, где покоятся предки. Каждый стремился сделать место своего проживания красивым, независимо от того, был это частный или многоквартирный дом. Если человек не мог позволить себе чего-то масштабного, то уж цветочную клумбу под окнами дома разбивали непременно. В этом смысле даже начались такие неофициальные соревнования.
Совхоз организовывал конкурсы на лучшие усадьбу и квартиру, что побуждало делать ремонты, заботиться о сохранности квартир.
Добрые традиции сохранились по сей день — больше нигде в районе я не видела таких ухоженных ливанских поселков, как у нас. Здесь недалеко расположен один дом, в котором никто не живет уже года три-четыре. По весне мы, все соседи, собрались и навели порядок около него — чтобы не портить общую картину. У нас здесь существует своеобразное соревнование: ах, у тебя такие цветы! Ну, тогда у меня тоже будут такие, а, может, и лучше! У тебя во дворе порядок? У меня тоже, даже чище! К тому же, люди не прячутся в свою раковину: мол, у меня что-то есть, но я никому не дам! Делятся всем: идеями, семенами, рассадой и пр. Нашим людям нравится демонстрировать, на что каждый способен. Такой здесь народ. Если кто-то что-нибудь интересное упустил — даже обижаются: вот, я не знал, а ведь мог бы!.. Я очень рада за наших жителей, потому что красота вокруг делает лучше и нас самих. Да и дети присмотрены и заняты делом.
Когда Латвия обрела независимость, у нас только название поменялось — автоматически стали самоуправлением. А все люди остались работать на своих местах. Политические игры в Риге и Москве коснулись нас лишь постольку, поскольку слышали о них в сообщениях СМИ. Самые масштабные перемены того времени были связаны с тем, что партия стремительно теряла свое влияние, начался период развала колхозно-совхозной системы. В результате всего этого власть постепенно переходила в наши руки”.
Тает, как снег весной…
“Если раньше каждого заставляли трудиться, то в свободной Латвии начался обратный процесс: людей стали освобождать от работы. Создавалось впечатление, будто дали указание все ликвидировать. В Сваринях был огромный детский сад, который проработал только несколько лет. Совхоз стал распадаться, все ресурсы иссякли, и содержать такое учреждение стало делом невыгодным, поэтому садик закрыли. Затем рассчитали паи, и, возвратив собственность наследникам, совхоз стал таять, как снег по весне. В “Восходе” больше не выплачивали зарплату, однако у нас была возможность оказать людям хотя бы минимальную материальную помощь: мы погашали все коммунальные долги.
Но всеобщий распад это не остановило. Продолжалось сокращение штата, все больше и больше людей оставались не у дел. Вначале семьи могли существовать на “биржевые” деньги, а потом многие и вовсе остались без малейших средств к существованию. Кого могли, принимали на работу в волость.
То, что многие люди остались без работы, по моему мнению, было самым болезненным моментом в первые годы независимости. Хорошо еще, что стала поступать гуманитарная помощь. Если раньше в ней нуждались немногие, то в те тяжелые годы процесс приобрел массовый характер, и в какой-то момент мы взяли на себя необычную функцию — выделение гуманитарной помощи.
Еще одна яркая примета того времени — на языковой почве стали возникать конфликты между жителями, поскольку латышей здесь было немного. Раньше собрания проводились на русском, и вдруг все стремительно поменялось, все документы — на государственном. Пришлось искать человека, который бы занимался их переводом“.
Люди уезжают
“Государство поддержало тех, кто решил уехать из Латвии. Нужно было выплачивать компенсацию за то, что люди освобождают жилплощадь. Но мы ничего не платили, ведь в поселке не было спроса на жилье. К тому же район не выделил нам деньги для этих целей. Уехали около десяти семей. Мы не вмешивались, не отговаривали, но и не и подталкивали. Самыми первыми переселились те, которые недавно обосновались у нас, и у кого в другой стране остались родные, друзья. Больше десятка лет в Латвии прожила одна семья, может, две. Потеря работы не была основной причиной их отъезда. Просто началось деление людей на граждан и неграждан, у многих были проблемы с языком — латышский ввели стремительно, и это вызвало дискомфорт.
Перспектив никаких — ни работы, ни собственности, ведь землю вернули наследникам. Те, у кого была возможность, уехали, в основном в Белоруссию. Кто успел сделать это вовремя, живет сейчас припеваючи.
Параллельно тотальному разрушению начался в это время и обратный процесс — появление малых предприятий. Заработал цех по производству шлакоблоков, появилась первая лесопилка, после чего открылись еще несколько. Правда, к сегодняшнему дню осталась одна. Особо тесного сотрудничества с первыми бизнесменами у нас не было. Впрочем, чем могли, всегда помогали”.
На принудительном отдыхе
“Закончился срок моих депутатских полномочий, а принять участие в выборах местных самоуправлений могли только граждане. Так я стала безработной. Некоторое время получала пособие от биржи, кое-как дотянула до пенсии. Оплачиваемой работы больше не было. В школу не вернулась, ведь в этом случае пришлось бы занять чье-то место, а я этого не хотела. К тому же, очень устала от работы с людьми, в первый год старалась в обществе вообще не показываться. Держала трех коров, как-то пережили все. Супруг Ян работал шофером молоковоза. Когда нужно было выбирать, за руль какого автомобиля садиться, я сказала ему, что молоко у сельских жителей никогда не переведется. И не ошиблась”.
С нашей помощью
Теперь семья живности не держит, есть только сад. На пенсии Нина много читает. Явных фаворитов в этом деле у нее нет, читает то, что не требует больших усилий. Частенько перечитывает произведения Задорнова (отца), исторические романы, потому что считает их очень интересными. Читать Нине нравилось с детства, только поэтому в свое время поступила на филологический. Не забывают своего педагога и бывшие ученики, во время встреч с которыми есть что вспомнить. Муж Нины свободное время посвящает охоте. А еще он — заядлый рыболов. Супруги Станкевичи вырастили дочь, которая сейчас живет со своей семьей в Риге, воспитывает маленького ребенка.
“Дочь окончила школу и уехала поступать в институт, но по конкурсу не прошла, — рассказывает Нина. — Я тайком радовалась этому, потому что не хотела, чтобы она стала педагогом. Дабы не бездельничать в Сваринях, дочь поступила в Малнавский техникум, окончила его. О том, что делать дальше, не имели представления — до тех пор, пока не прочла в “Эзерземе” информацию о возможности получить направление в Полицейскую академию. Дочь тоже узнала об этом и сказала, что нужно попытаться. Желающих оказалось, насколько мне помнится, 14 человек. Но всех предупредили, что места в нашем районе для них не будет. Уже во время учебы, на первом курсе, дочь нашла работу в Риге, затем — в прокуратуре. Ее супруг — прокурор. Огорчает лишь то, что столица далеко, а работы в Сваринях нет”.
Юрис РОГА.





.jpg)


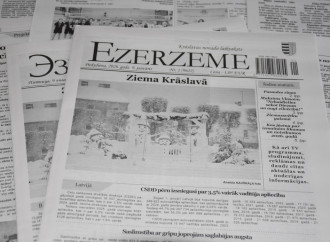

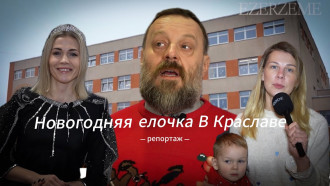






25.09.2020.JPG)













