Крестьянского хозяйства “Пакални” аулейца Айвара Ванага экономический спад коснулся, пожалуй, меньше, чем других производителей сельхозпродукции. Дело в том, что хозяин никогда не останавливался на достигнутом, а с самого начала, с 1993 года, трудился в полную меру сил и даже больше — чтобы никакой там кризис не застал его врасплох и не сломил.
Истоки хозяйствования Айвар вспоминает так: “Разворачивали хозяйство на основе животноводства, сегодня же производить молоко стало нерентабельно. Пред- чувствие надвигающихся проблем возникло год назад, когда за продукцию еще прилично платили, и положение отрасли казалось просто блестящим. Но не покидала внутренняя тревога, и я решил подстраховаться. Уже год держим свиноматок, поросят.
Но и от коров не избавились: весомого повода для забоя хорошего стада я не вижу, восстановить же его станет намного дороже. Продаем поросят, свинину. Но, похоже, не станет спасительным кругом и эта отрасль, требуется еще что-то — хотя бы открыть производство. А что производить на селе? Не кирпичи же… Осмотрелся: все обочины, леса, поля заросли кустами. Так почему бы их не вырубить, не переработать в щепу и не продать? Вы же наверняка захотите жить зимой в теплой квартире…”
Составленный Айваром проект производства топлива одобрен, за деньги из европейского фонда он купит трактор с прицепом, дробильную установку и попытается укрепить положение своего хозяйства выпуском промышленной продукции, впрочем, напрямую связанным с сельскохозяйственной деятельностью. К тому же, производство щепы — это дополнительные рабочие места. Словом, польза для всех.
Аулейский крестьянин старался не упускать ни одной возможности осуществить у себя тот или иной проект: будь то новая сельскохозяйственная техника или строительство. “Пакални” — хозяйство биологическое, неукоснительно соблюдает севооборот. Все необходимые корма производят сами. Если покупать, скажем, сено, то вложения не оправдались бы даже в те времена, когда закупочная цена на молоко была намного выше, чем теперешние примерно 11 сантимов за килограмм. Развертывающаяся в стране прямая торговля, по мнению Айвара, неплохой выход вблизи крупных городов, его же хозяйство, увы, отдалено от Даугавпилса.
Чуть ближе Краслава, но это маленький город и всем места в нем не хватит. Айвара ничуть не удивляет, что некоторым крестьянам завод платит ничтожно мало — сегодня все определяет качество: “Имея молочную, сдаем только качественное молоко. И то получаем лишь 11 сантимов, между тем, не так давно платили по 27”.
Справиться с полевыми работами хозяину помогает не только техника, но и наемная рабсила — заняты два человека. Любопытно, что львиную долю угодий — около 80 гектаров — Айвар арендует. Своей земли у него только 27 га, плюс лес, который пилили исключительно для строительных нужд. Сельчане сдают поля под честное слово.
Отрадно, что большинство его держит: 16 дойным коровам, да и телкам требуются как пастбища, так и корма на зиму. Посевные площади занимают до ста гектаров, все, что выращено, идет на фураж, для продажи ничего не остается. Не помешал бы новый зерноуборочный комбайн, а то старенький советский “Енисей” все больше напоминает сеялку. Но пока крестьянин такой покупки позволить себе не может.
В свое время Айвар взял весьма внушительные ссуды, которые, впрочем, его не пугают: “Убежден, что моя семья не только постарается вернуть долги, но и сделает это. Мы не из тех, кто бездумно набирал кредиты. О золотом дворце мечтать не вредно, но жить надо по средствам. Уверен: все, кто брал ссуды с умом, рано или поздно рассчитаются. Проблемы возникают у тех, кто наивно надеялся на то, что жизнь — сплошной праздник”.
Айвар подчеркивает, что старается исключительно ради детей, для него главное — обеспечить сыновей. Старший — Агрис — студент Рижского технического университета, Ивар учится в Латвийском сельскохозяйственной университете в Елгаве. По мнению отца, старший вряд ли вернется в деревню, а вот младший просто обязан это сделать.
“А кто ж ему позволит поступить иначе, — полушутливо-полусерьезно грозится Айвар. — Пусть берет в жены красивую девушку и домой! Правда, у меня придется работать. Захотят быть сытыми, будут трудиться, остальным в деревне делать нечего. Чего-то добиться здесь можно только тяжким трудом. Я, например, поднимаюсь в шесть, в посевную еще раньше, а ложусь после одиннадцати вечера. Летом не до телевизора — одна работа погоняет другую”.
За спиной Айвара Вишкский совхоз-техникум, работа механиком, инженером. После ликвидации совхоза создал собственное хозяйство. Супруга Элза — в прошлом работница вычислительного центра, обрабатывала колхозно-совхозную документацию. Компьютеров тогда не было, но кое-какую технику эти центры имели. Вышла замуж за сельского парня, который оказался непреклонным: “В Краславу? Ни за то!” Пришлось ей перебираться в деревню. Поселились в доме, который построил совхоз, позже его выкупили. И советом, и делом помогает хозяйничать Регина — мама Айвара. Хотя не ко всем советам сын прислушивается: “Теперь другие времена, но кое-что знать не помешает”.
Кстати, во время армейской службы, а проходила она в системе КГБ, Айвар приглашал свою избранницу переехать в Москву, где предлагали неплохие возможности роста. Но девушка наотрез отказалась.
Даже поверхностный взгляд на владения Ванагов позволяет сделать вывод, что сельская жизнь ничуть не хуже городской. Дом стоит поблизости от озера Аулеяс, выкопан внушительный пруд, куда запущено около пяти тысяч мальков карпа. А коптильня собственной конструкции источает по всей округе такие ароматы, что на пустой желудок сюда лучше не показываться.
Юрис РОГА.





.jpg)


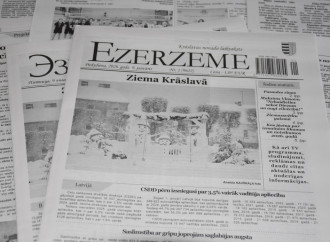

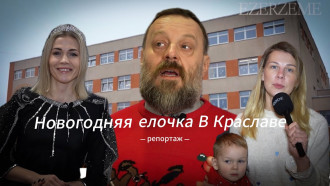






25.09.2020.JPG)













