Строили мы, строили очередное светлое будущее, а в итоге? Печально, но факт: Латвия явила собой негативный пример последствий разрушения традиционной промышленности и хронического государственного пренебрежения к проблемам сельского хозяйства.
С треском провалился эксперимент построить всю экономику вокруг мнимого финансового сектора, преимущественно на базе сферы услуг. При распределении доходной части бюджета давно наметилась тенденция уклонения от социальной ответственности, что и привело к росту числа бедствующих людей. Особенно сейчас, когда только раскручивается маховик безработицы.
Однако категория так называемых малоимущих людей — понятие растяжимое. Как и спекулятивное... Совершенно понятно, что есть среди нас абсолютно одинокие и тяжело больные люди, которым общество обязано помочь. Только они, как правило, стесняются или не умеют просить. Зато в любой деревне, поселке, а то и на хуторах непременно бросятся в глаза донельзя запущенные дома. Их беспечные хозяева не то что не посадят цветок под окном, а годами не отважатся воткнуть лопату в огородную грядку.
Какие каждодневные дела отвлекают таких горе-хозяев — догадаться нетрудно. Зато в дни раздачи гуманитарной помощи они в первых рядах. Вся трагедия как раз и заключается в том, что зачастую в подобных семьях подрастают дети. Папы и мамы, хватив безработного лиха еще в девяностые годы, потеряв раз-другой работу, так втянулись в вынужденный отдых, что и не пытаются отвыкнуть. Созданный институт социальных работников, конечно же, старается взять под постоянную опеку детей из бедствующих семей. С удивительной легкостью их беззаботные родители превращаются не только в хронических просителей, но и требователей помощи от самоуправления.
Вспоминаю трудные послевоенные годы. Полвека назад в Краславе, так же как и сейчас, было сложно найти работу, зарплаты — нищенские, но горожане цеплялись за каждый клочок земли, за каждую возможность заработать копейку. Если поджимало, то шли на хутора — помочь по хозяйству “за харчи”.
Не было в то время голодных людей, как и попрошаек у власти. Переходный период в некоторой степени развратил отдельную категорию людей, не страдающую пристрастием к труду. Знаю немало примеров, как отдохнув несколько месяцев, штатные безработные навсегда ставили крест на профессии, приобретение которой давалось с годами. Отдых затягивает так, что даже лень посадить картошку... Притом крепкому мужику ничего не стоит попросить у прохожего 20 — 30 сантимов. Не на хлеб, разумеется. Типичная картина даже в сегодняшней Краславе...
Хронический недуг корнями уходит в советское прошлое, когда госбюджет большой страны держался на двух китах — водке и нефти. Антиалкогольная компания в горбачевское время, а позже распахнутое рыночное пространство с полноводными реками дешевого спирта и алкогольных суррогатов нанесли страшнейший удар по демографии посткоммунистических стран. И по нравственным устоям общества тоже. Семейное пьянство не находит строгого осуждения и сейчас, и только бедствующие дети вынуждают нас констатировать эту проблему.
Мои наблюдения подтвердились в разговоре с Инарой Боторе-Тумовой, социальным работником Извалтской волости. В непростую должность обладательница дипломов учителя дошкольных классов и соцработника заступила три года назад.
Рассуждая на тему кризиса, Инара утверждает, что социальные проблемы на селе усугубляются вполне ощутимо. Если год назад при распределении крупы насчитали 205 нуждающихся, то при следующей раздаче продовольственной гуманитарной помощи это количество явно возрастет. Увеличение числа малообеспеченных семей — это следствие растущей безработицы. Одни свыклись с тотальной бедностью, других не спасают и выплаты по гарантированному минимуму, третьи и при наличии прожиточного дохода рады получить гуманитарную или волостную помощь, если это удается. Конечно же, в поле зрения социального работника семьи, в которых бедствуют дети. Тем более, что расходы на содержание школьников неуклонно растут.
Есть семьи, в которых принято жить с одних детских пособий, и, как это ни странно, родители не обременяют себя ведением даже минимального хозяйства. Тот случай, когда мы говорим “Яблоко от яблоньки недалеко падает”. Детям, не прошедшим трудовую школу в семье, будет сложно адаптироваться в обществе. Таких проблемных семей только по одной волости наберется до десятка.
В какой-то степени помогают льготные школьные обеды, регулярная гуманитарная помощь, разовые пособия, но главная проблема заключается в родителях. И если трудолюбие передается по наследству, то же самое происходит и с беспечностью. Вместо того, чтобы распахать огород и завести корову, отдельные папы и мамы, полные сил, продолжают просить, а то и требовать помощи у волости. А разжившись разовой поддержкой, не будут спешить покупать хлеб и молоко, а приобретут нечто другое, что никак не согласуется с детскими интересами.
Пьянство и алкоголизм — хронический недуг, который искоренить невозможно. У соседей и просто посторонних людей болит сердце за бедствующих детей, у собственных родителей — нисколечко. Куском хлеба можно помочь, но что заменит любовь мамы и папы? А те нагло считают, что общество обязано заботиться о чадах, которых они произвели на свет — ради получения детских пособий.
Иное дело — пожилые и больные люди, испытывающие горечь немощности и одиночества. При общем количестве волостного населения в 800 жителей, таких людей насчитывается только семь. Социальная служба держит в постоянном поле зрения каждый адрес, договаривается с соседями и с сердобольными людьми об оказании помощи остро нуждающимся. Следуя христианской морали, многие верующие люди сами протягивают руку помощи, поддерживают одиноких добрым словом. К таковым социальный работник относит Ларису Суботяло, Соломею Ютане, Монику Коваленок...
Главное — самоуправление полностью контролирует ситуацию в социальной сфере, отдавая приоритет тем, кто фактически нуждается в помощи, а не тем, кто демонстративно этого требует. Но изредка случается, когда люди сами запускают себя до крайней степени, а потом пытаются обвинять власть. При необходимости нуждающихся определяли в Дагдский социальный центр, руководитель которого Язеп Япиньш никогда не отказывает в помощи землякам.
Каждый день Инары наполнен решением больших и малых вопросов, касающихся жизненно важных проблем. Иногда разговор начинается по дороге на работу, а в правилах Инары отреагировать на каждую просьбу. Кризис для нее — это новые нагрузки. В тридцать лет Инара Боторе-Тумова нашла свое место в жизни. Неспокойное, но очень ответственное. А душа болит постоянно — за чужое горе, за нестабильность в стране и бесперспективность сельской жизни в Латгалии.
Алексей ГОНЧАРОВ.





.jpg)


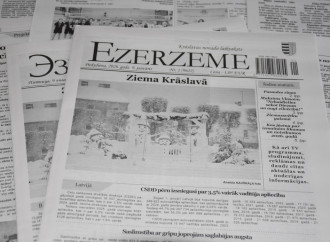

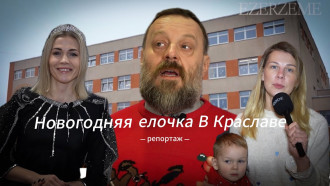






25.09.2020.JPG)













