За достигнутые в жизни успехи сотни, даже тысячи взрослых сегодня благодарят бывшую учительницу Эзер-ниекской средней школы Велту Калниню, более пятидесяти лет отдавшую делу просвещения детей и молодежи нашего края.
Требовательный педагог не щадила себя, трудилась с полной отдачей и никогда не сетовала на жизненные невзгоды, хотя судьба ее не баловала. Школа была и осталась большой семьей Велты, и каждый из членов этой семьи, без преувеличения, был любим — искренне и бескорыстно.
Родилась Велта в 1926 году в семье Теодора и Анны Калниней, спустя несколько лет после первенца Витаута. Отец — кавалер ордена Лачплечиса, земледелец и ремесленник в Янюкалнинах Трикатской волости, мать — домохозяйка и классная портниха. С братом дороги Велты разошлись, когда Витаут окончил Валкскую гимназию и ушел на армейскую службу. На самом деле семья не видела Витаута гораздо дольше — на восемь лет его выслали в Сибирь. До последних дней он служил единственной опорой сестры.
Первые четыре года девочка училась в Казруньги, а в 1939 году она с отличием окончила Трикатскую семилетку: по всем предметам пятерки, за исключением пения. В средней школе училась при двух режимах: начинала и заканчивала в годы советской власти, посередине — немецкая оккупация. В 1945-м с дипломом в кармане отправилась на филфак Латвийского университета — изучать немецкий. Первый послевоенный год был трудным. Жилье студенты искали сами. Велте сдали комнатку на шестом этаже большого кирпичного дома по улице Лачплеша. Отопление вышло из строя еще в войну, и всю зиму приходилось жить в холодном помещении. Затем удалось найти теплую комнату с мебелью у другой, очень хорошей хозяйки, но вскоре она умерла. Родственники имели на квартиру свои виды и попросили жиличку съехать. Велта обошла немало домов, но никто не согласился сдать ей жилье. Родных и знакомых в столице не было. В конце концов, не выдержав, девушка пошла в министерство просвещения и спустя три года учебы попросила направить ее на работу. Предложили Эзерниекскую среднюю школу в те времена еще Резекненского уезда. Здесь и проработала больше, чем полвека.
Начинала с преподавания латышского языка, можно сказать, вынужденно — учителей не хватало. В послевоенные годы кадры — в большом дефиците, к тому же это должны были быть советские кадры. Поскольку все учителя только начинали, приходилось пробивать дорогу самим, ни на кого не рассчитывая. Позже Велта стала преподавать немецкий язык, а также латышский в русских и латышских классах основной школы. Высшее образование получила только в 1955 году, уже заочно, причем пришлось перейти на отделение латышского языка.
Жилищные условия — скромнее скромного: по ночам туфли к полу примерзали. Только во второй половине 70-х, когда в Эзерниеках построили так называемый учительский дом, Велте с отцом дали двухкомнатную квартиру.
Заслуженный учитель, многолетний руководитель танцевального коллектива, затем пенсионерка. Танец — дело всей ее жизни. Важную роль сыграло то обстоятельство, что молодой учительнице приходилось работать с классом, готовить вечера. Это потом были курсы, семинары, начинала же она с малости: вначале вместе с классом готовили выступление на школьных вечерах, затем — в местном клубе. Так под ее началом оказалось уже три коллектива и, наконец, — участие в республиканском Празднике песни и танца школьной молодежи. Многие годы Эзерниекская средняя школа славилась своими танцорами по всей стране. Правда, первых мест на республиканском уровне ее танцоры не занимали, но они всегда были на высоте, и плеяда известных мастеров танца всегда смотрела на эзерниек-цев с уважением. А это уже серьезный успех. Конечно же, добились его благодаря поддержке школьной администрации, педагогов, учащихся и их родителей. Нелегко это давалось, представьте себе — танцоры сами шили для себя костюмы!
Скромно, но солидно — таков стиль жизни Велты. По ее мнению, звания Заслуженной учительницы она удостоена в большей степени за достижения на танцевальном поприще, нежели в профессиональной сфере. Бесспорно, она была хорошим учителем, однако всегда считала, что не доросла до уровня, соответствующего этому званию, — научного. Благодаря работе с танцевальными коллективами, их достижениям В. Калниня всегда была в центре внимания.
Такова вкратце ее биография. За скупыми отрывками — детская и юношеская мечта, огромный труд, переживания. Не бояться никакой работы Велта приучена сызмальства. В детстве и юности она много помогала маме, которая зарабатывала деньги, выполняя многочисленные заказы по пошиву одежды, трудилась у хозяев и бок о бок с отцом — дома.
“Вначале у нас было полтора гектара земли, — вспоминает В. Калниня. — Одним словом, кустари. Хотя кавалеры ордена Лачплесиса имели право претендовать за более крупные наделы, отец не брал землю — условия не позволяли. А при столь мизерном хозяйстве концы с концами не сходились, и мы, дети, были вынуждены батрачить. Поймите правильно, я не в обиде ни на кого из тех, у кого приходилось работать. Первая хозяйка баловала меня, как ребенка, да, собственно, я и была ребенком — исполнилось лишь семь лет. Вторая — грубоватая деревенская женщина, но и о ней ничего плохого сказать не могу — относилась ко мне хорошо. Но больше всего понравились третьи хозяева, очень интеллигентные люди. Даже фамилию помню — Кепитис”.
Работы в деревне — непочатый край. Велта три раза в день доила 4-5 коров, пасла скот, помогала на прополке, собирала ягоды, делала многое другое. Потом — школа. Советская власть выделила семье 15 гектаров земли — за счет соседа. Он был не только хорошим хозяином, но и крестным брата Велты. Янис Вицепс, так звали соседа, даже хотел, чтобы его земля досталась хорошим людям. При немцах, когда начался обратный процесс, сосед надел не востребовал, так он и остался в пользовании семьи Велты.
“За это мы с отцом отрабатывали, — вспоминает учительница. — Хозяин слыл человеком гуманным, благоволил нам. Имел всякие сельхозмашины, обрабатывал и свою, и нашу землю. Вязала снопы, разбрасывала навоз, даже при молотилке стояла: разрезала связки снопов и передавала их соседу, запускавшему в машину”.
На протяжении всей жизни Велта оказывала посильную помощь родителям. Даже когда ушла из отчего дома на учебу, а затем и вовсе уехала преподавать. Из Риги до Стренчи — поездом, потом 10 километров пешком по лесной дороге. Домой приходила в 4 утра. Мама к тому времени уже сидела за швейной машинкой. Дочь даже не думала отсыпаться и принималась помогать ей. Во время отпуска тоже спешила домой: вместе с отцом заготавливала сено, трудилась на других полевых работах. Однако наступил день, когда родители в одиночку уже не могли жить. Дом опустел: одни соседи выехали, других вывези в Сибирь, третьи умерли. Поскольку обратной дороги не было, Велте не оставалось ничего другого, как в начале 70-х забрать отца и мать в Эзерниеки.
“В таком возрасте вырывать с корнями очень трудно, — вспоминает Велта. — Отец еще как-то прижился на новом месте, познакомился с людьми, было с кем поговорить. Особенно сблизился с Янисом Вилнисом, которого принимал как сына. Я от всего сердца благодарна этому человеку за оказанную моему отцу поддержку, за то, что помог чувствовать себя как дома. Умер папа в возрасте 85 лет, в 1980 году. Мама ушла из жизни пятью годами раньше, переезжала уже больной. Она никогда не отказывала людям, вот и надорвалась”.
Теодор и Анна Калнини похоронены на Эзерниекском кладбище. Велта всегда гордилась своими родителями. Благодаря мастерству мамы она никогда не ходила в чем попало, одевалась скромно, но со вкусом. Дочь портнихи — это не только звучало гордо, но и открывало дверь, так сказать, в высшее общество. Велта свободно общалась с детьми крупных хозяев, родители которых заказывали маме новые наряды. Своим ремеслом мать владела в совершенстве, и все равно старалась пополнить знания. Одна столичная модистка, ездившая в Париж, передала через знакомых разные журналы.
Отца Велта запомнила как храброго, общительного, доброго человека, обладавшего незаурядным чувством юмора, легко входившего в любую компанию. И при Первой Латвии общество было разделено: у крупных хозяев — один круг общения, у середняков — другой, у бедных — третий.
“Мы жили в небольшом центре Яунклидзис — с молочной в каменном здании, магазином и баром вместо старин-ной корчмы, телефонной станцией по соседству, — продолжает воспоминания Велта. — Вокруг угодья больших и средних хозяев, а посередине мы — малоземельные кустари. Отец крестьянской хваткой не обладал, потому что долго воевал. В Первую мировую служил в Павловском гвардейском полку, сражался в Галиции. В латвийскую армию его призвали в июне 1919 года в Стренчах. За отвагу в боях против бермонтовцев возведен в звание сержанта. Уволен в запас 27 февраля 1921 года. Мне кажется, что в большей мере отцу подошла бы пограничная служба, крестьянство — не его призвание. В мужской компании тогда то и дело говорили о Первой мировой, об освободительных боях. Доводилось слышать немало интересного, что свидетельствовало об отцовском характере. Вот бы расспросить подробнее да записать, тем более что он был единственным в тех краях человеком, который так много времени провел на войне, сражался на разных фронтах. К сожалению, мы вспоминаем об этом, когда время упущено…”
В последние годы Велта сама нуждалась в помощи — сильно пошатнулось здоровье. Когда ее выписали из больницы, каждый день навещала соседка — библиотекарь Лидия Игауне, с которой они были особенно близки. Среди друзей учительницы — бывшие коллеги, соседи, просто добрые люди. Не забывали свою наставницу и бывшие воспитанники, навещавшие ее даже в рижской, краславской больницах.
Когда здоровье было покрепче, Велта много путешествовала. При советской власти за свои сбережения отправилась в круиз по странам Дунайского бассейна — в Болгарию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Югославию, побывала в Белграде, австрийской столице Вене, Зальцбурге. С танцорами давали дружественный концерт в Литве. Что до территории бывшего СССР, то европейская ее часть изъезжена вдоль и поперек. Пару раз была на Черном море, неоднократно ездила со школьниками в Ленинград, Москву.
Выйдя на пенсию, Велта старалась откладывать деньги, чтобы посмотреть мир. В конце 90-х и в начале нового тысячелетия побывала во Франции, Италии, Испании и Португалии, а по пути несколько часов провела даже в Африке. Этот список можно пополнить еще несколькими странами, которые она пересекла проездом. Если бы Велте удалось найти компаньона, согласившегося вместе осуществить мечту юности, перечень мог быть еще шире. Для современной молодежи в этом ничего особенного: они ездят намного дальше — в Японию, Китай, Австралию. Так что маршруты учительницы — это капля в море, тем не менее, она ими очень дорожила. Вернувшись из очередного вояжа, сказала: “Устала страшно, но увиденного мне хватит на долгие, долгие годы!”
Юрис РОГА.





.jpg)




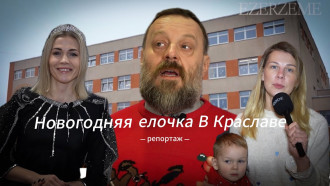






25.09.2020.JPG)













